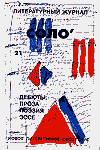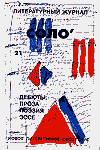Мне недостаточно общих заявлений. Я прошу главного инженера Поднозова уточнить, когда это было, при каких обстоятельствах, в какой обстановке. Ничего не должно быть приблизительного, ни одного "белого пятна" ни в одном эпизоде, ни в одном сообщении. Ни обвинение, ни оправдания не могут основываться на предположениях. Факты должны быть установлены с полной достоверностью, как они имели место в самой действительности. Причем все должно быть описано своей рукой на бумаге: на бумаге все имеет значение, и только ее можно пришить к делу. Таковы требования ремесла, и я их выполняю.
- Так газопровод, говорите, принимался 4 июня?
Даты Поднозов не помнит. Он знает, что приключилось все при приемке газопровода, в его присутствии. Княжнин тогда "артачился, шумел, отказался подписать акт и пообещал разоблачить эту махинацию". Уточняю:
- Махинацию? Какую же?
- А вы не знаете? - сощурился Поднозов.
Разумеется, я знаю. Но хочу услышать от него, хочу видеть, как он будет говорить, чтобы узнать, насколько самостоятелен он, когда внешние обстоятельства стремятся лишить его всякой самостоятельности, заставляют действовать и поступать согласно видам начальства. Я хочу это знать и переспрашиваю:
- Так какую?
Поднозов медлит, прикидывает: надо ли говорить то, что он знает? Он каждый день видит - подчиненные не говорят своим начальникам всего, как и начальники в свою очередь не говорят всего своим сотрудникам. Недосказанное часто совсем не секрет, а лишь один из способов достижения каждым своих целей. Разных, как и люди, видно, какие последствия - благоприятные или неблагоприятные для него и для других, не безразличных ему людей, - последуют из того, что он мне сообщит или не сообщит.
- Так какую? - подталкиваю я его все тем же вопросом.
- Ту самую, - с сердцем выдыхает он. - Газопровод-то сдали, а трубу-то даже землей не везде присыпали.
- Не может быть!
- Может, и было! и вы не хуже меня об этом знаете, - укоряет Поднозов. - Как раз это и хотел Княжнин разоблачить, сказал, что напишет куда следует. Тут-то все сразу и засуетились, засуматошились...
Добродетель неповоротлива. Пока Княжнин думал, советовался, те, кого могло настигнуть возмездие, уже сработали. В этот день по намеку Артакова был составлен "Протокол о вызывающем поведении т. Княжнина и оскорблении им людей при исполнении служебных обязанностей". А потом все шло в заданном направлении: начали искать и нашли сначала действительно, а потом мнимо обиженных, и те и другие дали объяснения. Составили характеристики, издали приказы, отредактировали все, собрали в папку - персональное дело было готово.
- Все-таки, - пытаюсь я выяснить у Поднозова, - вспомните, какого числа принимали газопровод?
- Не помню, - с раздражением отмахнулся он от вопроса. - Да вообще я хотя и рассказываю, но считаю, что разбираться в этом деле незачем. Можете расценивать, как на ум придет.
- А что тут расценивать? - недоумеваю я. - Вы считаете - не надо разбираться, а я считаю - надо. Что же тут нужно расценивать? Расценивать тут нечего.
"Если кто-то из людей, - думаю я, - по совести и по уму понимает что-то не так, как ты, значит он помогает взглянуть на явление со стороны, тебе не видимой, обогащает тебя, оберегает от ошибки. Ничего другого, кроме признательности, такое несогласие вызвать не может. Одинаковость суждений и точек зрения, особенно в конфликтных ситуациях, всегда должно настораживать, заставлять делать все новые и новые попытки проверить себя, поглядеть все ли тут так, нет ли за ними приятных низостей, вроде стремления угадать мнение того, кто облачен большим доверием и правами. Такой подход, как мало что другое, убережет меня от ошибки. И расценивать тут нечего".
- Главное, - возобновляю я разговор, - почему вы так считаете?
Поднозов не торопится, снова прикидывает, можно ли откровенно и решает: "Можно".
- Артаков стоящий руководитель. Он всегда добьется, чего захочет. И требовать умеет. Вот власть, правда, делить не любит...
- С вами что ли?
- Зачем со мной, с людьми...
- А может вы путаете это с нахрапом, с горловщиной?
Поднозов над этим не задумывался. Да и вообще методы работы его не интересуют: он главный инженер, его дело - технические решения.
- Я знаю одно, - говорит он, - Артаков и перед низами может хорошо выглядеть и перед верхами умеет предстать. А что Княжнин? Пусть он посидит в его кресле и покомандует в такой обстановке, когда со всех сторон жмут. С ним коллектив ни знамен, ни премий не получил бы... На производстве выполненный план всегда лучше невыполненного. И для того, кто отчитывается, и для того, перед кем отчитываются. Вы думаете, вашему главку нужен честно невыполненный план? Или людям? Спросите - они скажут...
- Значит, Княжнин враг людям?
Это - подножка, но я считаю ее здесь оправданной. Сейчас она с моей стороны не раздраженная реакция чиновника, на чье "сложившееся" мнение покусились, а оружие защиты человека, его чести и достоинства.
Поднозов, однако, не расценивает мой вопрос, как подножку. Он спокойно говорит:
- Враг не враг, а работу коллектива смазать хотел. Хорошо, что его не поддержали и во время прихлопнули. Пусть научится жить среди людей...
Вот и Зубова - та самая, которую оскорбил Княжнин своей и в самом деле недопустимой "резолюцией", - тоже твердит:
- Пусть научится...
Перед моими глазами лист персонального дела, раскрытый на этой как раз резолюции: "Тов. Зубова, если у вас не хватает своего ума, то займите его у тов. Кузнецова Г. М.".
Зубова косвенным взглядом видит злополучную бумажку, и я вижу, как кровь бросилась ей в лицо, а на глазах выступили слезы. Нет, такое ей не под силу забыть!
Не всякая обида забудется!
- Пусть научится жить среди людей.
Пытаюсь смягчить обиду Зубовой; так врач "сбивает" температуру, чтобы помочь человеку выстоять, "не свалиться".
- Вы уж простите ему это, - прошу я ее. - Обида заставляет вас преувеличивать вину, не замечать... Парень сорвался. Вникните, в каких тисках находился он, когда...
- Нет, что ни говорите, - прерывает меня Зубова, - а я убеждена: требовательность должна быть вежливой! Каждый должен разговаривать с другим без малейших гримас, без сановничества, начальственного чванства, без блажи. Ни у кого этого не должно быть, ни у кого! - отрезает она, вынимая из сумочки платок. - При всех условиях каждый должен быть человеком, хорошо усвоившим, что все построенное на окрике, грубости, оскорблении - непрочно, вредно, недопустимо. Если кто этого не понимает, то ему надо навязать, заставить в порядке партдисциплины усвоить, что оскорбление, унижение достоинства человека есть самый гнусный способ воздействовать на людей.
Что скажешь против этого? Да, требовательность должна быть вежливой. Каждый имеет право бороться и защищать свое достоинство, как и уважать, пробуждать, укреплять, беречь чувство собственного достоинства человека тоже обязан каждый, каждый должен развивать в себе чувства симпатии к людям. И радоваться тому, как год от года растет достоинство мужчины и достоинство женщины.
Я обещаю Зубовой:
- Мы поищем способ заставить Княжнина понять и усвоить это. Он принесет свои извинения вам.
Она считает вопрос исчерпанным и торопится уйти.
- Остальное в объяснении. Оно у вас есть?! - не то утверждая, не то спрашивая, говорит она, подавая мне руку.
- И заявление и объяснение ваши у меня есть. Скажите только: как вы, бескомпромиссная защитница достоинства человека, оказались... - хотел сказать "в компании", но сказал: - вкупе со всеми, кто решил столь беспощадно покарать Княжнина?
- Лучше бы не надо об этом...
Я развел руками.
Она возвращается. Снова садится.
- Ладно, расскажу. Но прежде...
И она опасливо просит меня... о тайне "исповеди".
Меня охватывает чувство горечи. От многих людей здесь я слышал: "Княжнин прав, он только на бумаге виноват, а на деле прав. Прямиковая душа у него, за то и расплачивается".
Всем им я задавал один и тот же вопрос:
- Но если вы убеждены, что он прав и его наказали несправедливо, то почему вы не заступились?
Словно по одной шпаргалке, мне ответили:
- Он не просил об этом.
Княжнин действительно не стал ходить по кругу и просить написать письмо с коллективными подписями в его защиту. Это Токмаков, - тот сам сочиняет письма, сам ходит к тем, кто пользуется уважением сейчас, кто знал его когда-то не тем, что он есть сегодня, и просит их поставить подписи. А они подписываются не глядя: "Неудобно как-то человеку отказать". Княжнин, конечно, не Токмаков. Он и тут придерживается своей "линии".
Странная, быть может, эта линия, но мне понятная. Я вижу: он не научился еще просить жалости, искать сочувствия и сочувствующих. Он берет на себя всю тяжесть проступка. В этом непоказная сила его духа и мальчишеский вызов всем. С этим можно не согласиться, но не понять этого невозможно. А вот с линией многих людей, что были рядом с ним, нельзя ни согласиться, ни понять ее.
- Неужели, - спрашивал я их, - за справедливость надо заступаться только, когда к вам придут, попросят?
- Мы думали...
Они, оказывается, думали, что кому-то "все виднее", что некие "соответствующие" организации все знают, во всем разберутся, примут меры... Отменное рассуждение, ничего не скажешь! А ведь каждый из них в отдельности и все вместе они могли бы сделать многое: сила истинного товарищества неодолима!
- Давно на стройке?
- Еще боржомом умывался.
Ответ немногословен. Лицо неулыбчивое, как у погонщика стад, привыкшего молча, с самим собой обсуждать все проблемы. Мне говорили: "Он Княжнину самый близкий товарищ по партии - рекомендации ему давал". Советовали встретиться, разговорить его. Сейчас он занят. К экскаватору один за другим тянутся самосвалы.
- Я сейчас, - Маклин взялся за рычаги, - только отпущу их...
Мне даже на глаз видно, что подготовка котлована под насосную станцию только началась. Пройдут месяцы, думал я, прежде чем его, точно трюм баржи, начнут загружать арматурой, бетоном, возведут стены, установят механизмы, опутают их бесчисленными проводами, трубами, проверят все в действии и сдадут. Между тем по документам эта насосная была "сдана и принята" вместе с газопроводом...
Маклин освободился. Я протянул ему удостоверение. Он вытер тряпкой руки, взял, осмотрел пристально со всех сторон, постучал крепким ногтем по обложке. Его, видно, интересовало не что в нем написано - на текст он взглянул мельком, - а добротно ли сделано. Так эксперты, осматривая попавшие в их руки машины, судят о могуществе страны. Возвращая поинтересовался:
- Вам, наверное, уже многое сказали?!
- Я хотел бы послушать вас.
- Ладно, скажу...
И надолго замолчал. Словно опустился в такие глубины, ушел в такие дали, откуда не легко выбраться. Напрасно было гадать, о чем он думает, какие картины видит в тех далях, что перебирает в памяти, какие сокровища ищет, - блики, скользящие по земле, ничего не говорят глазу о происходящем в ее недрах. Я ждал, как ждут водолазы возвращения своего товарища.
Потом, чтобы начать разговор, помочь появиться на свет мыслям, которые уже сложились в его сознании, прошу Маклина прокомментировать некоторые заявления, услышанные от Поднозова, Зубовой, Вачика...
- Сейчас.
Он снова взялся за рычаги. И повернулся ко мне, закончив погрузку.
- Можно?
- Я слушаю.
- Думать и полагать, - начал он, - что некие "соответствующие" организации без нас разберутся, примут меры, наведут "порядок"... нет, это наивно. Коммунист в первую очередь должен зависеть от своей ячейки. Она первая должна знать, первая разобраться и первой решать. Она и есть, стало быть, та самая "соответствующая" организация. У нас ее, надо сказать, обошли... объехали на кривой... вот так... - Маклин показал рукой, как это сделали. - Другие интересы взяли верх. В итоге - дело одного не стало делом всех.
Он помолчал.
- Само собой, никого не наказывают за то, что твоего ближайшего товарища по партии исключили без тебя. Но ты сам обязан наложить на себя взыскание. И выступить против перегибов, от кого бы они не исходили. Иначе зачем же ты член партии? Таскание в партком, в обход ячейки, того, что надо, не дает. Оно, наоборот, подрывает ту самую дисциплину, ту самую спайку, о которой столь много и часто мы говорим. Обсуждение персонального дела преследует воспитание и того, кто совершил поступок, да и самой организации.
- К сожалению, - откликнулся я на его слова, - не всегда и не везде так думают.
- Это верно, - подтвердил Маклин.
И снова задумался, точно готовясь вручить судьбу Княжнина в руки того единственного человека, который вас поймет и направит события по их настоящему пути. Для этого ему надо только сказать продуманные, веские слова.
- Поведение Княжнина, - продолжал Маклин, - во многом неправильно. Оскорбление людей, даже допустивших ошибки, недостойно коммуниста. Тут выговор - заслуженное взыскание. О чем говорить!
Помолчав, экскаваторщик продолжает:
- Но его поведение рассматривали односторонне, предвзято. А ведь суть-то конфликта простая. Она ведь не в том, что кто-то кого-то оскорбил. Княжнин выступил против того, чтобы строительство велось ради отчета, лишь бы доложить приятные цифры... За это и навалились на него. Да так навалились, что позвоночник треснул у парня!.. Да что говорить: - Из партии вон! Из партии Ленина! Отдай партбилет!.. Ты его недостоин! А знаете ли вы...
Но эти его слова прерваны были вдруг нетерпеливыми гудками землевозных грузовиков, скопившихся у экскаватора. Маклин отодвинул стекло, помахал рукой: "Покурите. Занят!" - и закончил свою горячую, сбивчивую речь словами:
- Отдай партбилет!.. Знаю: иные в час опасности в землю его закапывали, да иной так закапывал, что после и припомнить не мог, не то что под каким кустом, а и в какой области его закопал: не то в Киевской, не то в Могилевской!.. Но об этом человеке, о Княжнине, клятвенно скажу: этот лучше предпочтет, чтобы его самого живого в землю закопали!.. Вот так-то!..
Он тяжело дышал. Тылом руки сбросил со лба капли пота... Потянулся к рычагам.
Я не поднимал глаз от блокнота. И с какой же вздымающей грудь радостью, с какой светлой отрадой и гордостью за коммуниста, за человека, вписывал я торопливо заключительные слова Маклина.
- Мы все, вся ячейка, были против! Но мы ведь, сами видите, как разбросаны - на тыщу километров! Но мы уже свое слово сказали. Записано. Будет у вас в руках. Вот как только сменюсь... Я Княжнина в партию рекомендовал.
В кабинете Артакова, словно в крепости, готовящейся к обороне, завершались последние приготовления. Сотрудники молча и деловито развешивали графики, схемы, диаграммы. Приносили стопы папок, баррикадировали ими окна. На столах развернутыми стволами тяжеловесных орудий раскладывали рулоны ватмана. Прикалывали к стенам многочисленные таблицы.
- Давайте условимся, - начал Артаков, - когда занимаешься делом, а не разговорами о нем, то результат прежде всего. А его иногда приходится притаскивать за волосы, усилием сильной воли и твердой руки, так ведь? - У себя в кабинете он был совсем не такой, как в кабинете Домбарова. Стоял уверенный в себе, властный начальник, умеющий повелевать, знающий людей. Ожидая ответа, он оперся на указку, точно мушкетер на шпагу. Я кивнул:
- Пусть будет так.
- И еще, - продолжал Артаков, - говорят, статистика - что блудная женщина, кто ее зовет, к тому она и идет. Извините, но так говорят. - Артаков с нарочитой галантностью склонил передо мной свою кудрявую с проседью шевелюру. - Я же считаю, что без статистики нельзя и шагу шагнуть, а не то что сделать серьезные выводы. Анализ сотни-другой данных, хотя бы в силу вероятных закономерностей, позволяет давать правильные ответы чаще, чем простое угадывание или, добавлю, умозрительное извлечение выводов и фактов, надерганных отовсюду, как морковь с разных грядок. Поэтому...
С какой-то торжественной медлительностью, словно колдун к священному огню, Артаков подошел к огромной, во всю стену, таблице... Потом перешел к диаграммам, потом к схеме газопровода и все время говорил, говорил... Цифры сыпались из его уст, как просо из мешка: уложено, вынуто, перевезено, сдано, смонтировано, израсходовано, сэкономлено... Совсем как на бюро - внушительно, зримо, конкретно и также ласково, с улыбкой. Чтобы уж видно сразить меня, Артаков взял кипу газетных вырезок, сообщил: "О нас много пишет пресса", - отыскал нужную вырезку и начал читать: "Построенный в рекордно короткие сроки газопровод высвободил такое количество вагонов для других нужд, что если их вытянуть в одну линию, то..."
- Подождите, - остановил я Артаков. - Разве газопровод действует?
- Пока нет... недоделки... обычные...
- Тогда оставьте цифры журналисту. Пусть он вытягивает свои вагоны... - Быстро подсчитываю: со дня сдачи прошло пять месяцев, а недоделкам конца не видно, и говорю: - Пусть вытягивает их еще полгода. А мы побеседуем о другом. Садитесь.
Артаков кладет указку, послушно садится. Отмечаю про себя: Княжнин прав. У него действительно лицо благообразного патера, в меру умного, в меру смиренного, в меру велеречивого, в меру поседевшего той сединой, которую время от времени приятно показывать, чуть растрепав волосы: "Видишь, как жизнь-то посеребрила". А вслух, глядя в глаза, говорю:
- Я бы не Княжнина наказал, а вас, да построже.
Такого оборота он не ожидал.
- За что?!
Светившаяся до сих пор в его глазах ласковость сразу исчезла. Ее сдуло. Так порыв ветра сдувает переспевшие семена одуванчика. От его пушистой умилительности ничего не остается. Только неприглядный в своей белесоватости остов плодоложа...
- За что - меня? - переспросил Артаков, и на донышке глаз мелькнуло что-то жесткое, беспощадное. Круглые зрачки угрожающе потемнели.
Я не торопился с ответом. Прежде чем сказать: "Иду на вы!", надо еще раз все взвесить, подумать, как назвать оборотную, до сих пор не видимую, даже тайную сторону деятельности этого человека, и только все взвесив, начинаю как когда-то Княжнину перечислять:
- За то, что обманываете государство...
Итоговую цифру всегда можно либо уменьшить, либо увеличить с помощью несложных действий. Однажды, будучи в отъезде, Артаков позвонил в трест, спросил: "Как с планом?" С планом была беда, месяц заканчивался, а до выполнения не хватало что-то около одного-двух процентов. Услышав об этом, стал кричать в трубку: "Без меня и план дать не можете!" А потом потребовал: "Оформите сколько надо, в апреле отдадим". Так был брошен камень. Круги от него шли и шли, охватывая все больше и больше людей - приписки стали в тресте нормой. Никто не решался или не хотел выступить против этой преступной практики. Только Княжнин...
- За то, что... не любите делить власть с людьми...
Поднозов был прав: в тресте все определялось тем, что скажет "сам". А говорил Артаков так: "Знать ничего не хочу, кровь из носу, а чтоб было! Кому не по душе... вон, - отрепетированным жестом показывал он на дверь и порог. - В стране есть где найти работу, идите и ищите".
Освобождаясь от одних, он окружал себя другими, нередко способными, волевыми, опытными... пронырами, пройдохами, делягами, но и работящими, умными, даже талантливыми... безвольностями. Одни вели дело, другие умело оформляли его, а третьи - большинство - оставались в неведении. Разбросанные по трассе небольшими коллективами, они никогда не собирались, чтобы обсудить ход дела сообща, решить, как его вести дальше. За месяц я переговорил с очень многими из них. Мне памятны их лица, я слышу их голоса. В них - горечь хозяев, ставших поденщиками.
"Нас лишили главного - ответственности за дело. Мы приходили на работу и уходили с работы. Пробовали вмешиваться, но... в общем прав тот, у кого больше прав..."
"Ты кто, спрашивает, управляющий трестом, министр? Болей за свои заработки. Что после этого? Да пропади оно все пропадом!"
"Точно, бери, говорит, больше, кидай дальше, и не лезь, куда не надо. А мы не можем так..."
Слова эти говорили мне больше, чем все таблицы, разложенные и развешенные здесь.
- За то, наконец, что не по-хозяйски вели дело.
- Не забывайтесь! - почти кричит мне в лицо Артаков. - Я построил газопровод и дорогу! Они повесомее заявлений даже десятков недовольных демагогов!
"Я построил газопровод и дорогу..." Как легко и просто: "Я построил..." Странно, но тем, кто создает проекты городов, гидростанций, заводов, и тем, кто руководит их строительством, как никому, свойственно вот это вознесение себя в ранг единственных: "Я построил". Еще они полагают, что судить о них будут только по тому, что они создали. Какое печальное заблуждение! О них, как ни о ком, судить будут также и по тому, что они разрушили в людях и вокруг.
Пролетая, я видел газопровод и дороги. Они лежали рядом, нигде не пересекаясь, - неприметный валик песка, под которым были трубы, и лента дороги - черная повязка на желтом лице пустыни. Потом я проехал по этой дороге. И везде, по всей длине ее на обочинах лежали останки машин: с выбитыми зубьями шестерни, улитковый завиток автомобильного крыла, сгустки асфальта, вросшие в песок катки, клубки проволоки, напоминавшие спутанные колтуном волосы... Последним на пути был жилой вагончик и тракторная кабина. В небо, как бы вопия о свершившемся, смотрели ее пустые "глазницы"...
- Это еще что... А сколько машин там. - Шофер, что возил нас потом по трассе, приоткрыл дверцу и показал куда-то в пустыню. - Там их сколько... Пустыня, говорят, все спишет. Если бы вы занялись...
Мы "занялись", но разобраться в свершенном оказалось неимоверно трудно, как при попытке пересмотреть судебное дело, ставшее историей. Ибо все уже отодвинулось в прошлое, разъехались люди, утрачены документы, что-то уже потеряло значение, что-то забылось. Помощники мои не раз заходили в тупик и впадали в отчаяние: "Нет, это бесполезная трата времени!" Пока не появился неоспоримый документ, при чтении которого кажется, что заглядываешь в бездну.
Вот что нам открылось:
"В результате бесхозяйственности раскулачено, разбито и брошено пятьдесят семь большегрузных автомобилей разных марок. Все они с баланса списаны по актам, утвержденным т. Артаковым, как пришедшие в негодность из-за длительной эксплуатации. В действительности, как установлено, к фактическому пробегу каждой машины приписано от пятисот километров до трехсот тысяч километров пробега. Установлено также, что делалось все это по указанию начальника АТК Вартанянца..."
- А что Артаков? - спросил я тогда товарищей.
- Говорит, что утвердил акты, не разобравшись.
"Поразительно: я построил газопровод и дорогу..."
- Батыев след это, а не газопровод!
Артаков угрожающе вскакивает:
- Попрошу выбирать сравнения!..
Бесспорно, такое обозначение сделанного - не из приятных. Когда я услышал его от Княжнина, я тоже предупредил: осторожнее на поворотах. Теперь для меня - это не претенциозное сравнение, а реальная и неоспоримая действительность, выраженная в событиях, цифрах, живых наблюдениях, свидетельствах людей... И я повторил:
- Батыев след это, а не газопровод!
Артаков согласиться с этим не хочет.
- Движение вперед, - с пафосом восклицает он, - всегда требовало жертв. Только раньше жертвовали людьми, а сейчас это стало уделом машин...
"Вот как! А может быть он прав? Может быть и теперь, как прежде, надо приносить жертвы. Но какому богу?"
- Я, - декламировал Артаков, - сделал свое дело, и оно налицо!
"Так вот он, этот бог!" Он одет в пышные одежды из "глубокомысленных" фраз: переживаниями за план не отчитаешься; не щади людей, щади дело; победителей не судят; выполненный план лучше невыполненного; советская власть не то теряла, и то стояла. Как видите, целый букет!
Артаков утверждал:
- Вряд ли кто-либо на моем месте действовал бы по-другому. Даже вы. Время такое.
- Скажите, - решил я уточнить у Артакова волновавшую меня деталь, - это вы написали отцу Княжнина "суровую правду" о его сыне?
- Я! А что в этом плохого?
- Ничего, если не считать, что ваша "суровая правда" доконала его сердце...
- Я не могу срезать углы! Я иду по жизни, не сворачивая! Как вот эта дорога!
- Простите, но вы знаете - мир людей не пустыня. Дороги, которыми идет по жизни человек, не могут быть батыевым следом. Вам следовало бы это уяснить...
Я говорю Артакову об этом и многом другом, не питая иллюзий.
Но прощаясь, Артаков говорит:
- Спасибо за то, что услышал. Иногда оказывается интересно посмотреть на мир и самого себя глазами другого человека. Спасибо, есть над чем подумать, раньше бы надо.
Как будто раньше он жил в вакууме!..
Толкнув дверь, я вышел на улицу, и открывшееся поразило меня. Только что бушевала метель. Песок сугробами ложился у домов, змеились, переметая дороги, струи песчаной поземки, в кабинете Артакова, точно на мельнице, висела пыль, проникая в самого человека. "Дует льготный коэффициент", - с намеком пояснил мне тогда Артаков. А сейчас все тихо, слишком тихо и удивительно ясно. В небе остановилась полная луна. Около нее маленьким жеребенком паслась звездочка. Спал поселок; раскинувшись на сотни верст, спала пустыня. И только я, словно заводской рабочий, отстоявший две смены у станка, медленно бреду вдоль улицы, высматривая дом, где ждет меня койка.
Эта ночь была последней. Здесь в поселке нефтяников и газовиков, я пробыл больше месяца. И вот сегодня я улетаю.
Сегодня я завершу свои дела и возвращусь в город. Там, перед лицом своего руководителя, в окружении своих помощников я осмыслю, что открылось мне в самой действительности. Разрозненное соединю в целое. Деталь за деталью, словно мозаику, я соберу события в картину жизни, и она будет содержать в себе правду!
Ничто при этом не будет оставлено без внимания: ни эмпирические факты, ни резоны, ни слова, ни статистические выкладки, ни глубина и неприязненность взгляда, ни интересы дела, ни изменчивость очертаний губ, ни интонации и жесты, ни осанка - чудесное выражение характера, ни свидетельства людей, ни их упорство в своем мнении - всему, что я запоминал, анализировал, записывал, отбирал для будущих надобностей, всему найдется место; все будет использовано в созидании сущности, нужной людям. Сознание и чувство осуществит отбор нужного, отделит его от ненужного и необходимое использует, вредное преодолеет, бесполезное исключит. Все пройдет рассудочный, чувственный контроль, ничто не будет оставлено без внимания.
Сотни, а может быть тысячи раз мне твердили: "Истина - есть выводы из фактов, подтвержденных документами. Ее надо доказать как теорему. Тут без анализа и логики не обойтись. И это знает каждый школяр". Доводы убедительные. Доводы разума всегда убедительны. Они неопровержимы. И я с ними согласился.
Но жизнь - не школа. У нее другие оценки, другой подход, другая логика. Факты - вещь, бесспорно, доказательная. С помощью их можно доказать все, что угодно. И повидавшие жизнь знают это. Они часто повторяют одну фразу, повторяют ее как заклинание и предупреждение молодым и ретивым. За всякое дело, говорят они, опираясь на одни и те же факты, можно предать суду или представить к награде. И это не слишком большое преувеличение.
Когда источником творчества становится не умозрение, а само бытие, ты понимаешь: чистая фактология есть царство безукоризненного формализма, оно разрушительно. Анализ, приведенный средствами рационального мышления, выставляет напоказ умозрительную, оголенно-фактическую сторону явления. И истина умирает. Как любовь, разъятая на бесспорные факты - частоту дыхания, величину кровяного давления, ритмичность пульса. Истина становится мертвой, как приколотая к листу бабочка.
Искушение, которому я уступил, многому меня научило. Какая-то пелена, застилавшая мой ум и мое зрение, спала. Пришло время, и я понимаю: рассудок ограничен, он всегда остается в пределах механического миропонимания. А истина - это не логически безупречная комбинация фактов. Она содержательнее их. Истина - это многотрудное обобщение реального бытия людей.
Я иду не спеша. Иду, чтобы доложить об итогах проверки на бюро горкома. Я иду от дома к дому, смотрю на утренние заботы рано проснувшегося поселка и думаю: всем, к чему я пришел, я обязан людям. И тем, которые приходили ко мне, и тем, к которым приходил я. В еще большей мере тем, которые ни слова не взяли на веру, ни слова не сказали против совести. Все они обогатили меня, и каждый из них обогатил меня. Каждый из них и все вместе они связали меня сетью отношений со множеством людей, с производством, где они работают, с местами, где они отдыхают; каждый из них и все вместе они сделали меня строже и мягче, не только к людям, но и к человеку, научили меня быть внимательным и принимать в расчет как явления мира видимого, так и невидимого; каждый из них и все они помогли мне проникнуть в ядро фактов и понять многоликие и сложные связи, в которые люди вступают и вступали в действительности, в самой жизни.
Как же мне после этого не проникнуться к ним уважением? Как же мне в час расставания не выразить свою признательность всем, кто трудится для будущего. Люди! Они нагрузили меня, словно корабль, грузом тех человеческих богатств, которые должны остаться и - я верю - останутся во мне не на час, не на день, а на долгие годы, как сохраняются навсегда приобретения детства и юности.
Сегодня я улетаю!
Человек должен куда-то возвращаться, и сегодня я возвращаюсь "домой". Сквозь даль расстояния я вижу все, что ждет меня "дома", я вспоминаю слова, которые лучше не вспоминать. Чтобы не терзаться желанными, но неисполнимыми намерениями: в жизни есть и непоправимое.
Возвращение сулит мне мало приятного. Сегодня я попрощаюсь с Лавреневым. Увязая в песчаных сугробах, наметенных вчерашней бурей, он торопливо догоняет меня. Я жду его и думаю: о тех сокровищах, которые таятся в невидимых глубинах человеческого сердца. Я думаю о цветах, о которых ничего нельзя сказать, пока они не раскроются. Я думаю о мнениях, взглядах, оценках, которые прежде чем принимаются, должны подвергаться тяжкому испытанию жизнью. Я думаю об откровенности в отношениях людей.
С Лавреневым мы были откровенны. Люди не искренние, не откровенные, хитрецы, обманывающие раз в неделю даже себя, в моих глазах не имеют цены.
С Лавреневым крепко связало нас то главное, в имя чего мы - члены партии.
За тридцать семь дней, полных напряжения, тревог, усталости, сомнений и беспрестанной работы мысли, я узнал его. Он не стремился показывать ни свой "ревностный" интерес к службе, ни торопливой услужливости "подчиненного", так похожей на унижение. Он не сопровождал меня, а помогал найти истину, какой бы горькой она ни была, в том числе и для него. Но скольких усилий ему это стоило! Скольких, включая себя, ему пришлось убедить, переубедить, переспросить, приручить, обратить в союзников, прежде чем... откровенно и искренне признать:
- В вине Княжнина нашей вины больше.
Он не хотел оправдываться.
- Если бы не проверка, то все осталось бы так, как было решено. Нас запутали, сбили с толку потоком заявлений, объяснений, протоколов, приказов, резолюций... Если почитать их, да послушать Артакова, то любой возмутится и скажет: Княжнина не только в партию, а и в приличное место пускать нельзя. Нас путали, а Княжнина травили...
Он страдал, как и я, когда вспоминал, как требовал от Княжнина раскаяния и смирения.
- Все мы чувствовали, - говорил он, - что в тресте что-то неладно. А разобраться - руки не доходили. Случай с Княжниным нас тоже не встревожил. А нам бы насторожиться, поглядеть, откуда хороший отчет, когда нет хорошей работы?... А мы дальше определения меры наказания Княжнину не пошли. Сейчас я понимаю: все мы решали проблему данного случая, одни разобрали неправильное поведение, другие персональное дело, третьи - апелляцию, - и дело - разбирательство заслонило человека.
...Лавренев подходит ко мне свежий и отдохнувший, словно он и не провел ночь в машине из-за разыгравшейся бури.
- Бюро горкома уже в сборе, - говорит он мне вместо приветствия. - Ждут. А мне надо кое-что уточнить.
- Скажите: почему вы "прошли" мимо действий Артакова? - спрашивает Лавренев. - На бюро обкома его даже не критиковали, хотя основания для этого и были?
- А почему вы этого же не сделали? - спросил я его. - Хотя основания у вас тоже были. И он к вам ближе, вы - горком. Мы ведь и на вас оглядываемся.
- А мы думали: вам виднее, вы - обком...
Вывод из этого прост.
- Когда один сторож, - говорю я, - надеется на другого, любой может действовать безбоязненно. Мириться с этим нельзя. Следовательно...
- Следовательно, - продолжает Лавренев, - надо или заменить сторожей или повысить их ответственность.
Уточнять больше нечего. И мы оба замолкаем.
Заседание в бюро горкома продолжалось меньше часа. В многоговорении не было ни нужды, ни необходимости. Уже слышались раскаты очистительной грозы. Каждый был уверен, что ждать осталось недолго. И каждый выступающий был краток.
Передо мной сидит Княжнин. Он ждет, когда я закончу разговор по телефону, ждет с решимостью человека, в любую минуту готового вмешаться, прервать его. Вижу: он сейчас встанет, нажмет на рычаг и скажет, как бывало говорил Борис Коваленко, мой безвременно погибший товарищ:
- Да оторвись ты от своего кормильца. - Потом советовал телефонистке: - Не соединяйте. Они где-то, а я пришел к нему, значит, у меня важнее, чем у них...
Испытывать свою судьбу при посредстве Княжнина я больше не хочу: хватит и одного раза.
- Если можно, перезвоните попозже.
- Народ?
- Да.
Оборачиваюсь к Княжнину.
- Рад за вас.
Он тоже рад - это видно.
- Все равно, - говорит он, - меня бы восстановили.
И, помолчав, добавляет:
- Не у вас, так в КПК*.
Эти его слова показались мне чуточку лишними.
- Да, - говорю я ему, - это - верховная инстанция. Не сомневаюсь и я, что восстановили бы, если... если бы это не было уже сделано... Но бывает и так: Комитет партийного контроля посчитал чрезмерной, - или неправильной такую меру взыскания, как исключение из партии. Но это вовсе не значит, что КПК выдал "индульгенцию" на все проступки данного коммуниста, которые зафиксированы в его персональном деле и которые, быть может, послужили "завязкой" этого дела. А бывает, что восстановленный в партии товарищ приезжает к себе и заявляет: "Вот видите, вы меня исключили, а КПК восстановил. Поэтому никто мне теперь не страшен, кроме КПК!"
Княжнин рассмеялся:
- Со мной этого не случится!
Но я хотел, чтобы с ним не случилось и другое, как раз это было с другим товарищем, правда с меньшим коэффициентом внутренней устойчивости, чем у Княжнина. Помню, работал он на железной дороге, бригадиром ремонтной бригады. Как-то надо было быстро всем уйти с путей: шел поезд, сигналил. Все ушли, а один рабочий не торопится. То ли смелость свою показывал, то ли замешкался. Бригадир тогда взял да и обругал того рабочего. Тут же на него завели дело, еще что-то примазали и исключили: "Как же, член партии, а ругается, да еще такими словами". Хотя, казалось бы, что из того, что выругал? Ведь он боролся за жизнь человека, за дисциплину, за порядок. Ему можно было бы простить, а его исключили. Дело дошло до КПК. Там разобрались, обвинения, за исключением того, что обругал рабочего, отпали. Бригадира в партии восстановили, а выговор все-таки объявили. Вышел он с заседания и так рассудил: "Там везде исключили, а тут выговор; выговор все-таки лучше, чем исключение. Выговор через полгода снимут, а то хотели совсем из партии выбросить. Но в следующий раз я черта с два обругаю кого. Ни вмешиваться, ни ругаться не буду: пусть идет как идет. В крайнем случае бумажку напишу: уходи, мол, с дороги, а то задавит и крушение может произойти. Не уйдет - все это случится. Меня, конечно, к ответу. А я им бумажку: видите, предупреждал, вежливо и даже письменно!"
Рассказал ему и про этот случай.
Княжнин улыбнулся.
- Не беспокойтесь. И этого со мной не случится.
- Как знать. И вам ведь выговор объявили.
- Принимаю. Как узелок для памяти, как посох для пути.
Измерять человека отдельными поступками, несомненно, нельзя. Но нельзя и просмотреть момент, когда в поступке - весь человек, когда по сути - он уже не партиец, и устранение его из партии есть акт необходимости. Сам он, разумеется, думает на этот счет иначе.
- У меня остался только один выход - не жить! Как же я могу жить, если меня партия выбросила!?
Артаков растравляет свое горе, вызывая жалость и сочувствие. Он роняет голову на стол, пьет воду, вскакивает, ходит по комнате, сидит в оцепенении. Меня, однако, эта мелодрама не трогает.
Артаков пришел к тому, к чему тяготел, к чему стремился. И вот итог подведен. Отчетные показатели, цифры, бывшие у него своеобразным Клондайком, стали крестом, который он принес на Голгофу оргвыводов о себе.
- Что же, меня и судить будут?
Это уже не исполнение роли, которую сочинил он для себя. Хотя осуждение товарищей по партии Артакову безразлично, ему не безразлично личное поражение и возможные его последствия.
- Предание суду - прерогатива прокуратуры. Ей поручено рассмотреть материалы в соответствии с законом.
Успокоился. Расследование, доследование, повторные ревизии, экспертизы, отводы, протесты - улита едет, когда то будет.
- Так вы меня не возьмете?
Уверенный и повеселевший, заходил около стола.
- Скажите, а что мне делать сейчас?
- Браться за работу и не медля.
- Но я же теперь беспартийный!
- Докажите, что вы - честно работающий беспартийный!
- Вот и все встало на свои места.
Емцов шел по коридору, увлекая нас с собой, точно коренник пристяжных. Чужинов, казалось, ждал этих слов. Теперь и он мог высказать свое мнение. Остановившись, он затряс мне руку.
- Поздравляю!
Я пожал плечами.
- С победой! Ну, как же, хоть тебе и попало, и больно, но ты все-таки довел это дело до конца. С победой тебя, дорогой, с победой!
Я снова пожал плечами. Это не победа, это всего лишь шаг на долгом пути, который мы все решили пройти, чтобы перестроить мир человека до нужного людям совершенства. И не звезды волхвов указывают дорогу. И жнеца, и астронома, высчитывающего координаты небесных светил, по этому пути ведет простая и негромкая истина: во имя чего я член партии?