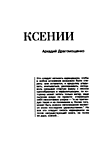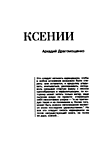* * *
В 12 году правления Юн-лю я был приглашен к его двору, дабы осчастливить все живые существа мира, способствовать выпадению дождей, урожаю плодов и хлебных посевов, а также прекращению безвременных смертей и наступлению приятного счастья. Под веками подрагивают зрачки. Жизнь. И здесь мы поворачивались и смотрели на окон гостиницы, откуда за полчаса до этого, сидя на подоконнике с вином в руках, глядели вниз, на воду, на мост, вытянувшийся псом в погоне. Мы видим то, что мертво в утвари зеркал и паутине бегущих трещин, в паутине того, что называется "сказать все", карта чего совмещает все времена. Угадывали место, откуда спустя полчаса, раскрыв зонты, размываемы моросящим дождем, станем рассматривать фасад гостиницы, выискивая окно, одно из сотен, в котором еще каких-то полчаса назад мы, отпивая глоток за глотком сладковатое и холодное вино, глядели в сумерки, следуя взглядом весьма простой и незатейливой резьбе, которую оставляли в изрытой воде буксиры, следуя туману, сумеркам. Вода затягивает следы, ничего не меняется. Ничего не знать - событие, избранное из значений. Когда бледны после любви и бессонны, не птицы. Под веками подрагивает зрачок. До утра, до вечера, до. Вот, кажется, и все. Я пишу на карточках и главное в этом - строгость, иначе ничего не останется пониманию. Все поглотит материя, исключившая первооснову молчания. Страница все более непроницаема. Не начиналось. Стриж, явленный ленивым поворотом головы - лук и стрела одновременно. Нам передается это невыносимое усилие сорваться с тетивы тяжести, предрешенности, подобное усилию слова, рвущемуся от самого себя, - это порыв разорвать вспышкой мига узел мощи, связавший две дуги крыльев. Книга, иное, является только в неуклонном истечении замысла. Но крылья также стриж, страж. След в небе есть птица, как таковая, как мгновение отдаления, ибо "в одном и том же мгновении даруется имя исчезновения и возникновения." Стриж, разворачиваясь (спираль пружины) падает, недвижно все: он в биении крови, свеченье ночи, крыши, рука, лицо, ничто, и здесь мы оборачиваемся и, вытягиваясь вслед зонтам, видим окно, принадлежавшее нам несколькими минутами раньше, однако тут надлежит говорить о "противоположной" стороне, скорее, о времени, чем о пространстве, потому как речь шла о строке, о странице, упавшей на мокрую поверхность стола, о впитывающей плоскости, дырах, о переходах от одной к другой, о чистом времени.
* * *
Это предложение есть следствие еще не написанного тобой,
что подтверждает представление о времени, опережающего явь.
Солнцестояние сосны. Стояние несносное чайки





 в ограничении крыла.
в ограничении крыла.
Целое не превышает частиц,
требующих разделения пространства. Миф - высказывание,
не способное расстаться с собой.
Страшнее распада прозрачность, устанавливающая родство.
Желтеют птицы яростно - свет стиснул их архимедову плоть,
вытесняя из равновесия сопротивления и силы,
точно лед из воды.
Теплокровный алмаз, в котором сошлись направления клеток,
оси костей и магнитных полей: спиралей клубок,




 паутина кочевий.
паутина кочевий.
Пар ото рта. В сентябре напряженный шест синевы.
Космос растений смиряется в цепь полую почерка,
которому больше известно, нежели знает рука. Смола
ли, застывшая на коре разрезанной дерева,
безучастность ли в возвращении предметам их качеств...
Но середина жизни отовсюду стекается -
то кленовых семян ливнем, то пешеходом



 в математической книге.
в математической книге.
Итак, можно услышать: "есть чем утешиться -
продли угаданное в форме тело, которое при дальнейшем
его рассмотрении позволяет изобретение свойств, -
описание, не осуждающее никого в из-ведении ведения".
* * *
Частота взмахов крыла в коридорах растянутых равновесий,
маятник, нескончаемо ускользающих от себя



 симметрий и сходств.
симметрий и сходств.
Я нащупываю слово гипс в углублениях звона,
связанное со словом "крошиться". Безветрие длится, напоминая
изгиб косы. Так продолжается долго,
до тех пор, покуда облачный вавилон, павший к ногам,
как хрустнувшее в затылке дерево, не вспыхивает лазурью,
но вовсе не той, что окружает, не существуя, мозг




 дугою месяца,
дугою месяца,
но той, что минует в зрачке трещину шелковичным червем,
глубину у поверхность сшивая иглой. Чрезмерная яркость.
Природа заполняет пустоту знака и совпадает с собой,
как стрелки часов, совпадающих ежесекундно с дробью круга,
идя к целому, словно рыба на нерест. И океан,




 падая из-за плеча,
падая из-за плеча,
закручивает зрачок а лазурной в нем трещиной
в ржавое руно гор - можешь вообразить теперь




 в этих краях луну,
в этих краях луну,
свору прозрачных псов, застывшую в беге вдоль складок пепла,
изрезанного купоросной резьбой воды, слепой,
как младенец в мантии материнской крови - понуждая легкие
с методичностью аккордеона расширять каждый квант воздуха,
до предела глотка его доводя в делении,
подобном часов делению.
Понимание находит опору в падении,
как в неизбежности произрастания туда, где только предлог
управляет идеей горения - знанием существительных,
отрекшихся от существа. Итак, произношу, обращаясь к отцу
с блестящей ложкой глядящему в том "Анны Карениной" -
мы закончили в прошлый раз на манере одеваться в сороковых,
на цветении сирени, на преимуществах
(относительных) револьвера перед ТТ, на небе, которое,
нас разделяя, росло, превосходя Гималаи, -
"Нищета... Поначалу она держит все,
в том числе и воздушные змеи, управляет призраками,
которые посещают нас, но чтобы закончить - ни у тебя,
ни у меня не достанет времени, поскольку
защелкиваются кольца дней, приближая к области,
отражающей все лучи, где добродетель света сокрушает




 хребты птиц,
хребты птиц,
охватывающих друг друга в парении,
и проницающих друг друга насквозь,
и они, словно луны, не нашедшие ничего


 в своем монотонном движении...
в своем монотонном движении...
ножницы
свистящий щебет... не перебивай... какая тяжесть..."
* * *
Речь единственная возможность, но не контроля, а исключения. Скорее, о том, как избегнуть ее заключения. Так неуклонное приращение капель и отражений, обтекаемых ими. Каждый город имеет начало, вступаешь в него отовсюду. Лишь переход одного в другое меня покуда "волнует". Порой, изучая изукрашенные тонкими ожогами кости, высверленные кремниевой пылью, свитой в танцующие оси силой земного притяжения и отторгающей мощью ветра, археологи прекращают исследования. Но, что им нужно? Мне это во сто крат интересней, нежели "переживания" персонажей. Мы прекратили читать романы. Ничего человеческого в этих строках нет. Слева от рдеющих кипарисов, в тонкой путанице проточенных теней мальчик и девочка закапывают книгу. Скулящие ласточки, проглоченный язык Филомелы. Город начат. Зачатие не обязывает к рождению. Мы начинаем с любви. Книга будет закопана у маслянистой глыбы ракушечника. Или ты был только рожден, или же был только зачат. Магнитофонные голоса родителей. Сроки. Сырость невнятного звука, развертывающего смысл в преодолении слуха другого. Бытует представление о некоем месте, где речь и речь ни чем не рознятся. Там, где я жил. Будущее совершенного вида. Скажи, почему они иногда сливались в одну - птицы, затем созвездия становились одним. Грамматическая функция "я" - союз в сравнении. Наконец, ты говоришь о разрушении масштаба вещей. С запозданием в месяц я продолжаю: функция глаза есть его оболочка. В преодолении предмет становится осязаемым - бытие. Разрезанное яблоко. Его половины при составлении не совпадают ни по величине, ни по форме. Вопрос и ответ разделяет ничто. Как в двойной экспозиции предстает нечто, именуемое реальностью. Круги смуглого света осыпаются с лип. Его мозг, как, впрочем, все тело представляет устройство, сквозь которое беспрепятственно протекает ветер. ни одного признания. Сумма сумм. Наблюдения за птицами (вероятно я все же наблюдал муравьев) убедили его (меня/ее) в том, что мертвые безмятежны, в том, что пристальности взгляда служит опорой отсутствие.
Только сейчас, по прошествии стольких лет, становится много понятней (если это слово, вообще, понимаемо) случавшиеся минуты оцепенения. Конечно, же безумие должно быть зримо, в противном случае оно сольется со снами и прекрасными, как разбитое стекло, случайностями языка. Взгляд задерживался (сужаясь в неосязаемый сквозняк острия), между тем продолжая себя за пределы предмета, цвета, вещи, факта, его привлекшего - например, летящего вниз паучка на сухом стебле, вниз, который вращался, вращая исключительно прозрачную нить, а затем снова перемещался к небу. Скажи, как же ты намереваешься жить? Громче, пожалуйста. На какие деньги? Кто тебя будет кормить? Тот, кто сотворил женщину желтой, а попугая зеленым? Допустим. Стебель медленно истлевал в глазах и оставалось нечто, возносившее к солнечной слепоте, к светозарной тьме синевы: ни глаз, ни вещи, ни тела не оставалось во владении чувства, в сознании его восприятия. Не этой ли бесчувственности, исключавшей, вообще, какое-бы то ни было понятие меры, сообразия, которым я был обязан жизнью с другими, равно как и представлениям, требующим, конечно, памяти, которая в свой черед требовала меня, как такового, то есть моего "прошлого", ежемгновенного уже прошлого, "меня", обладающего памятью... - не этой ли бесчувственности, открывавшейся во мне и мною для меня в иные минуты, я тяготел всю свою жизнь?
Все, что происходит, происходит не со мной. Перевести взгляд с чего-нибудь привычного, бедного, обыкновенного, осязаемого, конкретного к тому, что в нем как бы заключено. И что так и будет неодолимо влечь к себе, превращаясь в неотступную и не воплощаемую ни в едином из известных мне образов мысль, и от чего мне, довольствуясь ею, несчетное число раз пытавшемуся ее высказать, предстоит умереть, и в чем я уверен, если смерть не станет ее разрешением, окончательным ее развоплощением, не требующим ни аналогий, ни отличения. До без-конца восстанавливать, утраченное в это "зрении" сознание. Таково задание.
* * *
Обольщением смысла мысль влекома к тебе, который
никогда не тот же, но и который собой простирается в то, что
всегда избегает своей природы, простираясь в дикой игре,
собирающей, словно разрозненное в движении,
собирающей крупицы жара, воспоминания, богов, праха.
Иссякает пчела в прибавлении меда, цель поражает стрелу,
но протеиновый космос вновь являет себя
формой плодоносящей, ясностью взгляда. И дрожит тетива,
отдавая ее сердцевине дыма, золотясь золою
сухосумрачных жил-строк, стягивающих огонь с водою.
Как бы конца, бегущего стоп, предвкушение, -
помнишь у ног облако пробегало (и голова шла кругом),
будто раздаривая камням небо. календари. Им обучение и
силе небытия двойной - разлука, встреча,



 если помыслить что-то,
если помыслить что-то,
и тотчас от него отказаться., чтобы в нем быть.
В пойме памяти пойман:
в наваждении этом берет начало желание, его первый росток,




 рвущий покровы.
рвущий покровы.
Они возводили огромные здания,
преуспевали в борении со смертью,
добивались отчетливости в некоторых построениях рассудка -
и я любил это. Разве не магма будущего (одета корою истории)
жадно искала место, чтобы в себе появиться. Разве не этого
воспоминание вписано в отсутствие каждой молекулы,
в ее грядущее, в ее угрозу? Мы видим то, что мы видим.
Однако то, что отрадно в начале книги, противно становится




 ее же помыслу.
ее же помыслу.
Отказываешься даже от образа острова.
Что означает "древнее"? Повествование это удачно вполне,
и не вижу причины, чтобы не упоминать порою об этом.
Восковое безумие слуха. Есть ли о чем сожалеть?
Привычное - до свиста гортанью стиснутый воздух,
жила на шее, Сириус нас соседней крышей,
телеэкран через двор напротив и человеческая рука,
совпадающая со своей тень,
подрагивающая в силу законов сна.
* * *
Сухие молнии в луковой шелухе света.. Ключ поворачивается в замке: две размахивая руками - ни слова не доносится - топчутся на дороге и разум избирает из возможного: приближение. Высказывание не предшествует, но последует претворению в тесноте ряда, где речь - пустота, постигаемая через форму. Тело флейты представляет собой устройство, не препятствующее течению ветра. Наши тела вмурованы в измерения, словно кувшины в стены соборов. Ключ поворачивается в замке. В простоте удачи наука дерна непроницаема ни стопе, ни солнцу. Прежде, чем провести линию в нужную сторону, следует сделать легкое движение в противоположную сторону. Все понятно. Нет ничего непонятного. Разве непонятно, что в свете сухих молний две фигурки, размахивая руками, топчутся на дороге и ключ поворачивается в замке? Крупная соль солнца на снегу. Сколько раз мне приходилось писать об отделении листа от дерева, о падении. Еще не заткано. Стыд не позволяет писать "стихи". Видимый мир поддается описанию только при помощи "невидимых" структур, т.е. лишенных наглядности. Речь (форма) постигаемая через ничто. Докажи, что то, что ты пишешь, необходимо. Именно - обходимо. В огибании, в обходе обхода обучение косвенности, возвращающей к абстрактному миру бормотания. Пространство поэтического языка определяется временем испарения смысла. Но здесь мы оборачивались и: на фотографии - мост, рвущиеся из рук зонты. Скорость, воцарение неподвижности. Я видел кости мертвых царей, проплывающих в земле, словно птицы на юг, в перепончатые зеркала. Кварцевые образования, инкрустированные киноварными и нефритовыми вкраплениями. Цапля в сгустке лампы. Третье дано. Свалка уничтожает оппозицию природа/культура, и наполовину облетевший кипрей так же непроницаем и темен, как и вросшее в грязь разбитое колесо. Небо одно и то же в нескончаемом истечении цвета. Необходимо сравниться в собственной несущественности с тем, что содержит в себе простейшее действие. Непонятного нет ничего. Начинать, впрочем, необходимо с другого. Естественна ли весть оголенного звука, ускоренного метром дыхания?
* * *
Казнь виноградной лозы знаменует начало
следующей по счету утопии - продолжение мечты о странах,
где никогда не садится солнце. Каждое слово
тесно облегает рот изнутри. Льдом. Дыхание.
Или же ты был рожден, или же только воспоминание.
Насекомое принимает за рай
огонь, уловленный стекла глубокой ладонью, - цветущая
восхитительно рана пламени.
Выходит тебя возвращает то, что
казалось, уже безвозвратно утрачено?
Каллиграфия ветра в плодоношении почв.
Пасмурны ливни, не проливаясь. Воздушной персти
искристое волнение, словно незримый орнамент смятения
избавляет пространство от строго направленной силы. Ничто
не содержит умысла. Нечто прозрачнее, чем значение,
под стать детскому телу, изъятому из рода и времени. Боли
виток начат черенком ожидания. Рассмотрения. Так
прирученье идет, росток за ростком вживляясь в сознание -
восторга усик, виясь, напыляясь, его настигает, чтобы
лозой лукавой кануть в необожженную глину -
русла, пропорции, сопряжения... -
тканью волнуясь проблесков столь краткосрочных,
что называем, не обинуясь, "судьбой", продолжая себя создавать
в углах пристальных, квадратах ночи, кругах зрачка,
в переливах гласных, бормотания. Контуры тени.
Дети, как странствие по дорогам из мела после полуночи.
Обучают владению звуком, росы равновесию на паутинах,
которое должно быть впитано телом: не торопись, произносят.
Отвяжи свою память. Осторожность - вот начало этой
бамбуковой дудки в сопряжении скважин, но
прежде ослепнуть руками, чтобы порога достичь,
где ко встрече готовы воздух уже отраженный




 и выдох восставший.
и выдох восставший.
Важен и угол. Именно в нем затаилась некая ярость,
отнюдь не земная или корней, уходящих в нее, подспудно
лелеющих прозябание стеблей - совершенно иная,
принадлежащая миру взвешенной пыли в холоде множеств, - та,
что принимает в жертву отбросы, исцеляя от ужаса.
Вообрази, что с ивовой веткой воду ты ищешь,
и постепенно уходишь под землю, но ничего не меняется. Небо
в его несвершеньи по-прежнему рот муравьиный твой полнит,
ливнем подкожным впиваясь
капель, успевших иссякнуть. Шейная жила... тут терпеливо
странствует ночь - "не ты ли сам говорил, что любовники любят
к ней прикасаться, как бы испытуя привязи крепость, -
календарный рисунок растрачен.
Так корень, опустошенный развитием, развязан в просторе,
завиток сверхтяжелого времени, превзошедший деление слиток
в скаредном протекании сита. Темный
трепет строения. Прекращая усилия, они бесполезны.
Деревянную дудку рядом с собой положи. Больше не трогай.
Пусть первый звук, извлеченный сегодня



 так и останется первым.
так и останется первым.
Ничего не утрачено. Помни. Но что?
* * *
Да, это происходит на берегу залива, на берегу горы.
На берегу руки. И это происходит со мной,
извлекавшего некогда цену из целого.
Песчаные детские грядки топологической западней
неподвижно вихрятся на дне окаменевших зарослей,
где, как бы не нашедшие впору лица,


 конструкции хрупкие дремлют,
конструкции хрупкие дремлют,
не являя себя покуда ни ликованию, ни меланхолии,
подобно маскам изогнутым, наподобие удара подковы.
Ожидаешь прилива. Гребень его
расчешет мокрые косы песка, выплетет тернии нефти;
ожидаешь навыка отвыкания. Купель мотыльков
раскаляется до бела, расширяя зрачки кислорода, будто пар



 керосиновой лампы, -
керосиновой лампы, -
раскачивается в дознании
с веками, срезанными до первого мига бессонницы
(меня записывали скрупулезные сны на гибкие
серебристые диски, которыми, растороченными на нити,
сшивали переломы блистающих чисел),
где она гаснет в перспективе - "когда", сменяющих
друг друга в графе эвклидовых равенств.
Ряд преступлений вновь образует свод непререкаемых правил.
В воде отражается небо, в небе вода,
лестница уходит в оба конца. Условие - отыскать место,
куда вписывается "душа" или же начало



 затаившегося отражения.
затаившегося отражения.
Побудем еще немного (просьба усилена междуметием) -
в раю одичавших вещей, из забытья вырванных когтем




 полночного солнца
полночного солнца
(этот пример пригоден вполне

 для прояснения природы метафоры),
для прояснения природы метафоры),
присвоенного, изведенного этой строкой,
пористой, как губка аориста, в которой скапливаются не года, -
ни для кого оседающий опыт, совлекающий в фокус "всегда"



 полынную распрю встречи.
полынную распрю встречи.
Но меня никогда не интересовали слова...
Ни то, кем были сказаны, ни - произнесутся ли впредь.
Пожалуй, только одно что из безмолвия их вереницей изводит?
Неужто так просто устройство? Встроены в "J",
предшествующий "А", связующий с "Я",
расположенное в рядне основы, запуская колесо алфавита...
Праща. Опора направлению линейной исповеди.
* * *
В периодическом возвращении мысли к смерти нет ничего экстатического. Каково прошлое единицы? Отрекаясь слой за слоем от наставлений речи и ее сомнительных утешений, удается понять: - благо? зло? дерево? эллипсис? - недоговариваемость поэтического договора-договоренности, договариваемости между "силой" и "автобиографией". Между чадом Стикса и чудом маятника. О возвышении голоса? О преддверии речи? - уносящей по мере явления от горизонта, к которому непреложно стремится мысль: разнонаправленность в одновременности. Есть только предложение, преступающее предел. Им, вознамерившимся к - свершению, ныне за ненасыщаемый голод деталей... Траектория каждой подробности. Воображение есть непереходное действие предвосхищения, область великолепных абстракций. Утешения нет. Летящий в комнаты снег и мост, ветер, вырывающий из пальцев страницы (было - зонты, исписанные буквами и цифрами). В оцепенении каждая вещь, длящаяся победоносно мимо. Но язык, скорее, не обнаруживаемся пустота, исполненная "служением", явленная через написание в пространстве эллипсиса (чтения) - графии, желания. Раскрывающее себя, как миг-век разделения. Из своего окна: ветер гнал алый лоскут настурции. как если бы сквозь ладонь смотреть в зенит.
Слой за слоем, когда "я" избирается, как нить, на которую нижутся изолированные фрагменты. Действие как вещь. Мертвая вещь, как мертвое время, или - эротизм песка, множественного в едином. Машина, двое в ее оболочке, остаток - скорость, извне втекающая в скорлупу, создающая ее тело, облекающая обоих, яйцо, блуждающее во вселенной, заключившее близнецов в тесноту ряда. Дерево в окне поезда исчезает, не трогая более игрой с законами оптики - зрение есть процесс описания, совпадающий или не совпадающий с предзнаньем, как нить с иглой. Я устаю, и усталость несет ясность взгляду. "Как называется то, что я делаю?" - Спрашивает она. - "Когда я веду рукой по твоей коже. Прикасаюсь ли я к тебе с тем, чтобы ощутить свою ладонь? Или же для того, чтобы воочию, еще раз попытаться уловить постоянно ускользающее в прикосновении различие между тобой и мной? Привлекаю ли тебя?" - Спрашивает - "Отталкиваю? Только лишь предложение? Впитываю ли руками? Или же руки хотят сомкнуться там, в тебе, за тобою, где ты - до тебя; чтобы встретить твое еще совершенно чистое желание раньше, чем твой мозг, этот сад кортексов вне пространства, откликнется световой метелью и не скроет мой рот под накипью серебра - каждая частица зеркало, в котором собрано мое (его/ее) тело, вспыхивающее безразличием, но и в стоне продолжаешь помнить, как по краю сознания добираешься до его же конца... Однако я толь-только миновала твой локоть, и ты только-только оборачиваешься ко мне, думая о влаге, которая встретит тебя в моем прикосновении. Это ли ты хотел слышать?" Конец цитаты. В доме, окна которого были коричневы от тумана и солнц, на полу хрустели пустые пчелы. Самодостаточность световидного шара. Иногда, словно холм. Или возвращение к ночи наощупь любовников - но сейчас мне более по душе, когда мы с тобой оба вытянуты на боку - будто я тебя окликаю во сне, разорвав паутину подобий и времени. В сорок (раньше) лет телесность меняет масштабы. Утрата прозрачности. Смена сезонов. Мне нечего сказать, ты все это знаешь. Как хорошо известна мне эта фраза! Не об этом ли прямая речь как таковая? Проясняет, будучи нескончаемо темной между молчанием и речью. И все же, иногда так тихи, как фотографии, создающие нас, в письме исключая из.
* * *
Однажды но так
но так
же как это


 проходит
проходит
угол
тонким ростком формулы
косвенный блик
для названия иного
чрезмерно  имена именования
имена именования
или обмен
или же мало
но так же как это было
затем переход
однажды

 другая позиция
другая позиция
лежать либо стоять
но лежать  вверх лицом
вверх лицом
покачиваясь


 камыши
камыши
как будто не существует
снег заносит
решето рта травы решето
глины
 размеры
размеры
голубиный булыжник
проселок пни и проселок
ржавчина единственного звука
многозначительность
как их много
 око за око
око за око


 знак за знак
знак за знак
за глаз
глас оглушение
оглушение придыхание
придыхание
слепни ослепшие солнца



 формула
формула
после  прежде
прежде
морщины как
возникнуть, чтобы дышать
дребезжание электрического сгорания
сгорания
паутина
проселок нож ожил
горизонтально река
оставляя его одного
инфинитив и братья головы
головы
в венках

 коровы
коровы
чавкающее
но змея весенняя ветвь
без хруста пристально
воды безглазая музыка черное
черное
это цветы
праведность меловой дороги
сукровица
СНОВИДЕНИЯ СТЕН
Шуршащая
по струне шершавого
прикосновения улица, косность которого
разворачивается флагами накипи, каплями
крыс, подрагивающих в комке ожидания, знаменами жира -
ленный шелк, лунного затмения ноготь -
словно выводы, следующие один другому,
когда фигурки зверей преданных и обожженных
танцуют на полюсах полых выстрелов, уходя
коридорами антисептического свечения.
Так ощущаешь телом
вина завязь, лозы озноб, кварцевое излучение железа,
хлеба поры, запертые на замок бессмертия. Об этом
в рукописях одиночеств, испещренных бормотанием руки,
исполненных крапивным рокотом, как толпа, которая
вдруг назад подалась, прогибая панцирный щит скал,
как если бы ослепительно-белым пред ней
разомкнут в черту стал овал.


 Итак, все, что сокрыто - реально.
Итак, все, что сокрыто - реально.
Шуршащая,
как чешуя шершавой струны - но мы провели сотни лет
в изучении переползания дрожи по рядам Фибоначчи -
в протоке стремительном трения
между указательным пальцем страны, пойманной
в западню ностальгии,
дым чей неслыханно чист,
сродни помыслам неопознанных


 ферментами гласных прохожих,
ферментами гласных прохожих,
о большим пальце. Пробуй же, пробуй,
край пифагорейства поет, как стакан под смоченным пальцем.
Да, я бесспорно ощущаю своим языком дерн слюны твоей,
нити волокнистые слов, архитектуру рта твоего,
пустоты речи и ночь, прибавление ночи, но дальше
немо читаю по слогам твоего позвоночника.
Интуиция являет волновую природу.
Но портреты, подобия, образы... снова портреты, сыпь,
аллергия, иероглиф, глядящий в себя, как в колодец.
Разве забыл? -
реализм,
фотографии,
узнающие ясновиденья гильотину во вспышке затвора,
во вспышке гнезда, в изотопии затылка. Никаких сравнений
с телесным. Этот край поет под стопой.
И сновидения стен.
Все, что реально, сокрыто в реальном.
Без чего невозможна черта. Однако портреты, подобия,
образы с разрезанными рукавами по горло в грязи,
в которой идут они достаточно долго,
разгребающие кладбища в поисках пропитания,
задумчиво стоящие над кострами,
показывающие как ни в чем ни бывало лазурные руки
идущим навстречу, на которых
сосчитан каждый порез.
Но запястья тень покрывает пернатая. Тень
каждый порез опишет слогом достойным и оставит узором
медленно тлеть сосновой бумаге или плитам стеклянным:
одиночества почерк мерцает,
словно толпа, которая - пряжа осенняя, пряжа дороги,
программы, молекул, воображения, страха, гормонов,
которая только орнамент сомнамбулических пальцев,
прянувший прочь от линии некой, обозначенной белым,
если, конечно, в срок не буду доставлены куклы убийства.
И стены, где плавают говорящие головы, перенимают
в своих сновиденья повадки диких зверей,
резиновых гномов, эмигрантов понурых
с прядями детских волос, залогом живущих в карманах.
И пастухов и волхвов - иные
из глины и достались нам по наследству,
тепло сохраняя ладоней, тающих в утренних взмахах,
горящих, словно кувшины, которые с разрезанными рукавами
пылают, будто часы. И чистотела они и тимьяна,
и арматуры ржавых домов, с горизонтами
ведущих липкие переговоры,
из перекрытий бетонных и нефти,
но также из знаков как бы случайных, как заключения, -
но это не здесь, конечно, не здесь, кто осмелится
нам возразить, закольцевавшим в гаданиях свое бормотание.
Не на той стороне и совсем не на этой, не здесь,
где сползали дождями или углем парили,
синевой испаряясь в небе огня, в котором все так же трещит
ребрами змей из бумаги, но это, бесспорно, уже на той стороне
поющей монеты, освещая китайские тени поэтов,
влага откуда поныне течет в сновидения стен,
мыслящих мысль исключеньем из мысли,




 перекипанием извести
перекипанием извести
вместе с костями либо мешком серебристо-туманным
топора и значения, замысла, смысла. Здесь лучше сказать -
рыбы бег иссякающий в темнотах звучания, уходящего в степь,
к повороту каменных крыл, к вращенью тысячелетий,
смерзшихся в соты. Вертепы,
музеи и куклы в драгоценных уборах, утварь бедная речи
там вовлекается в сумерки, в размышления письма о письме,
в чтение телескопических букв сосущего нас алфавита
и гулкость зиккуратов одного измерения. Улица.
Вот о чем мы забыли! Исходящая шепотом
шуршащих подошв по шершавым покровам посеревшей смолы.
Нация.
Музеи фигурок застывших, кукол убийства, животных,
карт непонятных, письмен, фотографий. Время красиво.
Напоминает гром каруселей - помнишь рынок и лето? -
кровь в сапогах, бегущий охотник, доктор с крестом,
медная спазма тубы, но на той стороне, где-то там или здесь,
кто посмеет нам возразить? Будь осторожен -
двери, вот эти двери, именно вот эти двери,
как раз эти именно двери,
эти самые двери, молниеносные двери - они закрываются,
обними же меня, и не надо сейчас об отваге, о боли, о Боге...
Я совсем не о том.
Скорее, о каменных крыльях пустыни,
об отсутствии измерения в точке, не совсем не о том,
как когда-то, то есть, когда было нужно
говорить обо всем, я говорю, узкое тело движения,
он говорит о промысле, она о любви, унижении, жалости,
он говорит, что он, просто, мужчина, нет - человек,
что они, просто, народ, и даже не так: они - нация, просто...
которой нужно идти в великие сновидения стен. Торопись,
они говорят. Надо, чтобы стало понятно,



 о чем ты нам говоришь,
о чем ты нам говоришь,
когда улица левый глаз разрывает шуршащим мельканьем,
и они говорят о начале, истоках, обреченные только тому,
что уже было, что всегда уже было, что
уже были уже. Даже мать и отец в расточении силы были уже,
и о чем же тогда, когда миг обжигает... нет, входит-выходит,
мгновение деления клеток, сцепления секунд, когда желание
наступает пятой, вырывая признание. Клок,



 кровоточащий незримо,
кровоточащий незримо,
"бессмертие". Тогда
неисчислимое древо спирали взрывается по вертикали
и солнце заката его омывает,
и параллельная стае движется смерти прямая,
как улица,
хрустальный лоб детства
проламывающая молчанием.