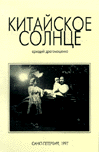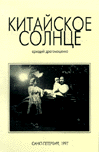Наклоненное к стене зеркало у двери, укорачивавшее днем меня и мое время, ночью оставляет несложные уловки и дышит едва подрагивающими, уловленными месячным сиянием в безветрии, облаками: "Во мне происходит несколько жизней, однако ни в одной из них мне не находится места. Я думаю, это ощущение тебе хорошо знакомо, мне кажется, оно знакомо всем". При обстоятельном разглядывании, будто проникая сквозь пленку век, зеркала запаздывали на тончайшую долю предощущения, выказывая природу жидко-кристальной матрицы теней; в зазор ожидания полного схватывания, овладевания отражением того, чем оно порождалось, летела пыльца бессонницы - пыль сомнения в изначальности того либо другого. Только обмен, переход, развеществление в образовании мнились существенными, хотел ты того, или нет. Ночью ты не спишь, избирая в качестве поводыря шепот, остывшие углы которого чисты от теней, слепяще-безучастны, и нет теней, как нет заглавных букв и знаков препинания. Страсть ли это?
Но колдовские линзы осени. Числа, отражающие себя в круглых колодцах материи, поэты с испитыми ртами и руками, сведенными судорогой смывающих другу друга формул, уголь, раскаленный тростник, звон и птицы в криптах известняка. Не проявленное невозможно забыть. Память присваивает только то, что определяет прошлое, тело, - как если бы не хватало цвета; словно моя рука, ведшая линию в размеренном сокращении пространства, "оплывала", расползалась, подобно пятну туши на влажной бумаге, теряясь, прежде всего, в законах чувствования ее телесности, а затем в инее, где одно грезит двумя, но не преступает предела первоначального, но возвращения нет, и ветхий младенец не радуется собственной радости - сухие семена, вспышка холодного октябрьского ветра, отзвук голосов, никому не принадлежащих, как если бы самое "никто" могло бы быть принадлежностью, приоткрывающей сцену, на которой несколько ряженых слов, рассеянных в игре, разыгрывали бы простоватую комедию ревности, щекотки, зеркала и пудры или - первовзрыва, разделения (является ли младенец эротическим телом матери?), как в анатомическом театре. Отделение ткани, едва сдерживаемое удивление тому, что завеса ничего не сокрывает: ни голубя, ни червя, ни золотой монеты, ни - "кто ты?", ни горбуна, приводящего в замысловатые движения бессмысленные фигурки автоматона.
Нас создает глаз.
Мы создаем остальное, что впоследствии будет помечено слабыми прикосновениями карандаша.
Можно сделать выбор: так ли необходимо это, настолько ли настоятельно требует это введения в повествование как продолжение узнаваемых линий судьбы и тающих голосов ранним утром, когда едва-едва слышно биение под стопой городских камней, и спящие под кровом продолжают видеть огромную фигуру справедливости, облеченную в слои масляной краски. Или же вычеркнуть - отослать, сослать в поля ссылок, муравьиные царства стрекочущих ресниц, снеся в петит бормотанья ракушечной риторики. Весы умирания. Я не пленял птиц. Взвесь, оседающая на стены зрения. И то сказать, наконец стала понятна древняя хитрость - килограмм пуха оказался тяжелее килограмма железа, идущего на хлеба, сапоги и время. Потом оказалось, что деревья во дворе все срублены. Спустя еще время исчезли пни. Из квартиры этажом ниже, где всю мою бытность проживал идиот с однорукой матерью, не доносилось ни звука. Наступила и прошла жара.
Идиота и его мать, наполовину съеденных вшами и блохами, в один из дней увезли в приют для хроников. Цены на овощи поползли вниз. Близилось время жатвы. Когда взламывали дверь, говорили соседи, санитары теряли сознание. В двух комнатах все до потолка было завалено дерьмом - оказывается сантехника давно не работала. Может быть, для них это уже не играло какой-то особенной роли. Все изменялось. Червь в яблоке умирал. Умирало и яблоко, которое по неосмотрительности червь избрал вселенной. Причем было понятно, что ни о каком выборе не могло идти и речи. Слишком плоско, неумно. Столкновение света со светом, тьмы с такой же тьмою. Да, мне известно, слова забываются, иначе зачем бы я это писал. Отпечатки тлеют на сетчатке глаза. Животное ли глаз? Или же он - плод, ягода, алгебраическое яйцо, не имеющее ничего общего с телесностью? Или же - стена, в которую заключена память. Возможно наоборот. Даже лучше. Теперь спать. Идет снег. В предгорьях Гималаев мы разбили свой лагерь. Вода в кране. Бессмертие конечно. Снег уходит. Много людей. Меньше. Не так уж, чтобы очень много, но немало. Я любил тебя. Любовь и настоящее время никоим образом не сообразуются. Как это там? Откуда мне знать. Конечно, банальность всего в первую очередь объсняется необъяснимой банальностью смерти. Не так. Банальность "всего" полагается неизбежным "стечением" каких бы то ни было объяснений и обстоятельств в точке "сознания-смерти", словно в сонной догадке... в темной ладье в шелестящей листве.
Сон мнился продолжением всего, к чему бы ни обращались ум, воображение. Изумрудно сгорала мошкара, в миг вспыхивающей встречи с иной материей отклоняя огонь свечей от прямых осей тьмы. Машинально передвигая вилку по скатерти, отец, не поднимая глаз от рук, говорит:
- Ожерелье Индры. - Кольцо на его безымянном пальце бездымно гаснет. Вот-вот, не иначе.
- Что-что? - как бы смущенно спохватывается мама, поправляя волосы, слоно освобождая их золото, все золото мира освобождая от света, летящего из кухонного окна во двор, как от чего-то заведомо лишнего, чрезмерного. Видишь, она собирает со стола? Картинка приходит в движение, но как необыкновенно безнадежно она пуста. Я вижу. Ты видишь, видят и они. Я также вижу, как она выпрямляется и прислушивается. Кто она? Она кто? Интонации. Прежде всего следует разобраться с интонациями. Ты только что сам назвал ее... Я не говорю нет, я не говорю да, но я совсем не об этом... Входит Василий Кондратьев. Он пьян, печален и под мышкой у него тяжкая, как Поднебесная, книга. Нет в этой книге никакой книги. "Возникновению подобно..." - говорит он, а дальше не разобрать. И никого не существует, кроме тех, кто нескончаемо падает в зеркальные блики обманчивой поверхности, кроме брызг неяркого света, летящих острым ветром навстречу невнятному веществу.
- Вот-вот, сеть Индры, - повторяет отец, склоняя бритую голову.
Мы движемся по кругу, на короткое время попадая в тень яблони, затмение, новолуние, холодные волосы, вода, кровь и листья. Будто ничего и не было, будто мы об этом с вами не читали! Словно мы - тогда и сегодня. Но угадай тогда, где - сегодня? Где колыбель противительных союзов? Из каких пространств перемещаемся в какие, оставаясь недвижными камнями, собственной непосильной ношей? "Неужели минута превращения желания в несколько капель пота на твоих прикушенных губах, в твою влагу, в мою сперму, в это особо волшебное прикосновение рук, - заключает в себе (потому что пропадает) все без исключения: империи, длительности, смысл которых отстоит рассудка, их не приемлющего, понимание, хруст костей, бессилие, вой, рвы, засыпанные известью, стыд за желание быть во чтобы то ни стало (разве оно нам подвластно? Какая чушь!), нас самих, равно как и всевозможных богов, взирающих с недоумением на себя, в то время как они покидают пределы, положенные нам, вопросительный знак. Интонация.
Чего же это стоит, если в одно мгновение ока оно рассыпается, не оставляя даже понимания того, что испепеляет это, носящее высокомерное в собственной неуязвимости имя реальности? Ломаного гроша..." Продолжительный монолог неубедителен и требует быть расписанным на два голоса.
Мы усердно ведем поиски второго голоса. Другого не существует. Мы наделяем речью собак, глину, минералы, Бога, водоросли и элементарные частицы, включая тех, кто отворяет дверь пробуждения.
Речь (наученная собою) взыскует другого как ограничение, позволяющее ей возвращение (представление такового, описываемого ею круга, часто служит предпосылкой мысли о целостности), но поскольку его не происходит, речь становится невесомой казнью соответствий тому, через что она проходит, смещаясь по бесконечно длящемуся удалению, невзирая на обилие примет и знаков, чье количество как бы должно служить гарантией ее достоверности. Прекрасно.
Хотя, о чем я только что говорил? С каким вопросом я обращался к тебе? Но после ты поворачиваешься и не видишь стула, - был ли он иллюзией, или же он есть: иллюзия, продолжающая ею быть, становясь в тебе, завоевывая тебя пядь за пядью, покуда не превращает тебя самого в собственное отсутствие (да-да, разумеется, невозможно наблюдать эдакую бездну продолжительное время). Утверждаю, здесь стоял стул. Нет, здесь стоит стол, ломящийся от яств. Оставь, вина больше не нужно, набрось-ка лучше мне на плечи одеяло. Как долго повторять - осень. Думал ли ты, что эта пора года настигнет нас у Великого океана? Как странно, прошло почти сорок лет. "Я нигде не мог отыскать твоих следов." Да их и не было, как будто не было тебя, как и всего остального, следом чего, по уверению многих, являюсь я. Непонимание - всего лишь безыскусный силок любви страсти... его уши, глаза, нос, рот - на службе у жизни. Поэтому ими надлежит управлять. По окончании курсов выдаются соответствующие свидетельства, из которых, как и из дальнейшего отрывка явствует, что "язык", взыскуя другого, становится осенью, измерения которой охватывают свершение каждой вещи. Что остается в ней, после того, как она исчерпывает свой цикл? - остаток сроков - смутные указания на стороны света, но и их число зависит от того, кто и как намеревается взглянуть на это дело. Наверное, нам осталось одно - смотреть друг на друга и меняться местами. Fatal Error 404
Мама выпрямляется, касается волос левой рукой и смотрит через плечо в сад. Фотография слетает на пол. Нас нет. Мята, тьма, плеск, хрупкая вязь жизни растений, нити шелков на речных перекатах, ирисы и пионы.
- Непонятно, почему он не доводит мысль до конца... - безо всякой связи со сказанным и с фальшивым недоумением. - Все-таки удивляет, чем в итоге довольствуется этот, как будто в самом деле серьезный ученый, хотя, согласитесь, он удручающе прав в другом, язык действительно подозревает собственную конечность, благодаря чему приходится вводить... - понятно, что тут следует споткнуться, осознать неуместность собственного монолога. Наклониться - и он это делает: астигматизм: это мы знаем: к столу, чтобы близоруко, уйдя в собственные мысли, близоруко отпить из рюмочки, откинуться на спинку стула. Психологическая литература обязана оперировать в пределах риторики детали, единственного, отличного, что является продолжением любого возможного представления читающего. Почему он не доводит свою жизнь до конца? Рюмка, описание внешнего поведения, условий, проявляющих поведение персонажа. Пример: Диких подумал, что он думает. В садах медленно катится августовский ночной ветер. Матус Израэлевич Манн следует примеру деда и, отерев салфеткой рот, обращается к матери:
- Ну... кажется, пора. Любопытно, который все же час?
- О, совсем не поздно! Посидите еще чуток, - говорит мама, улыбаясь отцу, в то же время незаметно предпринимая попытку отобрать у него вилку.
- Да-да, прости... - роняет отец. - Довольно таки глупая привычка.
- Кондратий Савельевич, - обращается к отцу Манн.
- Весь внимание. - отзывается он.
- Ну, так едем ли мы в воскресенье за карпами?!
- Да, - слышу я себя, глядя в окно, где цветет все та же настурция, и северное небо расстилает сладостную ложь очередной смены времен чисел и года. Утварь утверждения.
- Прекрасно, но буквально никому не досуг заклеить лодку! - неожиданно вспыливает дед, будто долгожданное применение его ожиданию найдено. Кто когда-нибудь видел ореховые удилища, не простые, а складные, в которых для сочленения используются кольца, нарезанные из гильз разного калибра. Но теперь в приступе театрального раздражения можно под шумок хлопнуть еще рюмку.
- Папа, ты ведь обещал! - произносит мать.
- Ах, Маша, - прикажи-ка подать (смеется, вот, будто пришел издалека) золотого вина, - ты не клад золотой. Закопав, не надумают вновь откопать.
- Скажите, почему два одинаковых эпитета бесстыдно идут подряд? - спрашивает отец.
Мы не там. Развитие форм производства изменили формы восприятия. Также изменилось формообразование раковин. Восприятие изменяло вялотекущую картину возникновения и чередования деталей. "Скажи, когда-нибудь мы будем трахаться, как нормальные люди, в постели, простынях, по-настоящему? Неужели, вот так, всю жизнь, будем таскаться по кустам, чердакам, детским садам и лодочным станциям?" По холмам. Спустя вечность, появилась волшебная гора. Пишущая машинка на шкафу оказалась воплощением совпадения. Вечность не обязательно означает - "всегда". С чем совпадала буква, отыскивая себя в райской нечленораздельности предощущения? Для пустого-свободного сердцем все делается само собой. Близнецы. А по прошествии еще какого-то, не учитываемого времени бабушка, уставясь перед собой разбитыми, как меловые птицы метелью, глазами расскажет о том, что Манн умер "очень хорошо, дай Бог каждому" - т.е. лицом к стене, не просыпаясь. Глубокое дыхание. Такова пневматическая фабула. Прав - значит спокоен. Не пристало существовать по иному археологичекому объекту. Не знаю, какой смысл заключен в последнем слове. Является ли оттиск заполнением пустоты, или же ее образованием? Лазурь наносится на изделие тщательной и опытной рукой. Является ли знак оттиском? Рекой? Я давно не жил в тех местах. Остальные также в мое отсутствие. В комнате было не прибрано и воняло скисшим пивом. Возможно, "эпизод" и "фрагмент" в какой-то плоскости находят точку пересечения, если не принимать условные границы первого и второго. Их легкие, заметные только моему глазу, вспышки исчезновения не поколебали пламени ни единой свечи.
Сон был напылен на каждую грань вещи, наделял их неодолимой непроницаемостью, превращая в подобие ряда отрицаний, из которых каждое должно служить доказательством несостоятельности следующего, равно как и предшествующего, но сумма которых, как и суммы безмолвия и голосов, иногда побуждают разум думать о вероятности преступления тщеты ожидания. На меня падала сверкающая стена воды, в толще которой метались, загадочным образом оставаясь неподвижными, красноперые рыбы. Переместив взгляд от ламп, летящих назад по стене, к полной пожилой женщине с тяжелыми сумками у ног, я подумал, что такое место допустимо только в качестве условия возможного к нему отношения. И что оно уже всегда оказывается изъятым до того, как сознание начинает к нему "приближаться". Параллельно я думал о том, что осознание таковой изъятости понуждает мысль стремиться к месту отсутствия, где она не то, чтобы исчезает... Никогда не представляла, что скунсы так красивы. А потом пришел оппосум. Нынешнее лето перебросило мне через стену мешок, в котором трамвайно лязгают кости зноя. Луна за все заплатит. Главное не спешить. Но что ожидаю я встретить в месте, которое буквально является не-присутствием места? И где не "живет" никто из тех, кого я знаю, мириады обрывков разговоров которых неотступно оплетают мою голову изнутри. Бесспорно, слова утратили принадлежность, следовательно, значение, - слабым налетом смысла в них брезжат кристаллы интонации, из которых складывается то, чем довольствуется ум, не оставивший ни единого зазора между собой и чертой, обручающей отсутствие намерению постичь это отсутствие как сущее, как есть, как одну из конечных областей, куда должно было бы простираться мое существование, уверяясь в ложности собственного стремления. Далее для мысли не оставалось, выразимся так, оперативного простора. Она попадала в ситуацию мгновенного переозначивания. Если не ошибаюсь, вопрос Витгенштейна состоял в следующем: совпадает ли дыра с собственными очертаниями. Замерзшая креветка, вода по щиколотку, летний снег по ночам.
Пожилая женщина улыбнулась и, кивнув на сумки, сказала, что, вот, дескать, так каждый день. Легче всего предположить, что обращая подобный вопрос к себе, я мог бы спросить - совпадает ли моя смерть с очертаниями моего существования. Если да, в какой его версии? Если да, - то что определяет что? Ответным кивком я дал понять ей о своем с ней согласии, ничто не вызывало возражений - "действительно, так бывает каждый день". Конечно, это головокружительное смещение в еще более непостижимом и абстрактном смещении можно было бы приостановить в один миг. Но при условии серьезного отношения к себе, вплоть до собственного тела, т.е. - как ты бы сказала - прошлого.
Известно, процесс взращивания телесности долог и не имеет окончательных результатов. Чтобы стало понятней, я сравню его с процессом овладевания языком; как если бы язык существовал до "овладевания" им.
Иногда я улыбался, воображая простоту какой-нибудь фразы наподобие: "что дела мои без Бога!", или: " - - / - - !" Возникая из холодного марева скуки, они утверждали меня в мысли, что страх и ограниченность, порождая грезы о некоем единстве, тешат себя надеждой избежать стыда, - здесь надлежало бы говорить об отвращении. Подобным высказываниям, а они встречались среди других постоянно, я искренне радовался. Но "понимание" и есть именно та переходность, которую означает существование или, если быть точнее (насколько это возможно теперь для меня), его (но проистекает ли оно из "меня" либо уже принадлежит мне?) экспансия, т.е. место, где оно происходит. Причем, я не сказал бы, что мне самому этого чрезмерно хотелось. Я видел генералов холоднее льда и тверже камня, но я видел и то, как они превращались в мутную лужу талой воды. Все дело в климатических условиях и сексуальной ориентации нации.
"На фотографии я с мамой.
Чувствую, это конец, говорит он".
Что чувствуете вы?
А, ощущая, вслух спрашиваю - конец чему? Смех измеряется литрами. Тогда, каково было начало, и обучали ли ему, как, к примеру, обучают управлению машиной или рукой - овладевание, "одевание" властью? Иногда я (но объяснить можно все, что угодно) прикасаюсь к фотографии пальцами. Чего я жду? Следуя смутному импульсу, прикрываю глаза, жду, как если бы что-то после этого должно произойти. Фотография напоминает пересохший сыр. Нет, говорит доктор, это не так. На самом деле вы возвращаетесь к своему репрессированному воспоминанию о змее, которую пожирали муравьи. Нет, доктор, тут я возвращаюсь в очевидно феноменологическом смысле - просто возвращаюсь. Никуда. Однако зная, что присутствую при возвращении. Это возвращается к вам ваша Тень. Отнюдь нет, мы убираем прописную букву и тень уже никуда не возвращается, более того - она не вращается и пребывает в неподвижности, как сухое дерево на припеке. Мы жжем тень и греем ладони на ее призрачном пламени. Иногда снимок можно сравнить с концом сентября или с выжженной в глине клинописью, которая никогда не разольется вдребезги в какую-то из будущих зим у ног. Итак, мы молоды, исполнены сил и читаем Драгомощенко. Что рассказывает нам Драгомощенко? Что-либо о долготе и ударениях в квантитативных размерах? О спондеических, ямбических окончаниях? О карлах, единорогах и немых принцессах? О жидах и вечерних умилениях? О том, что невыразимо счастлив, живя в стране, избравшей свой особенный куда-то путь? Увы, при всем его желании (сомнительном) ничего нового Драгомощенко ни нам, ни себе не расскажет. Ход его повествования отменно известен. Он определен, прежде всего, закрепленными элементами значений, а затем способами установления связей этих элементов. Вначале он прибегнет (как однажды выразилась некто И. в своей к нему записке, переписывая один из фрагментов "Ксений" в соответствии с собственной стратегией критики его письма) к практике совлечения "вниз" сентенций, которые по мере накопления обратятся в манифестацию. Потом - об остальном. В частности о том, что мне было отказано в рождении. Взамен я получил право на присутствие, которым ни разу не воспользовался. Об оставшемся я ничего не знаю. Так же, как я не знаю, кто такой Драгомощенко, и кому снится он в чтении. Не было ни "одного", ни "много". Либо в чьем воображении возникает "его" образ при чтении следующего предложенния, в котором говорится, что:
"мне не удалось дозвониться до И., так так на конверте отсутствовал обратный адрес. Возможно, если бы я его знал, я смог бы узнать и об остальном, во всяком случае, больше того, что мне известно. Мне бы хотелось, чтобы И. прочла это предложение и, если возможно, возникающее за ним. В дальнейшем мне бы также хотелось, свешиваясь, скажем, с крыши, щуря глаза от солнца, увидеть И., выходящую из-за угла, и приветственно махнуть ей рукой."
Я не знаю, о чем стали бы мы говорить с вами, но (в это мгновение) я ощущаю, как что-то уходит, и удержать это мне не под силу. Я намерен зачитать эту, покуда всего лишь неполную страницу, как письмо Вам, что вполне возможно рассматривать и как письмо себе, потому что лучшего случая было не придумать, хотя воображаемые беседы всегда доставляли мне смутное ощущения действия, в котором произносимое изначально противоположно системе жестов, сопровождающих или предваряющих (здесь нет различия) возможную часть высказывания. Как вы догадываетесь, я намереваюсь говорить о поэзии. Но, по обыкновению, стоит только заговорить о ней, как множество других голосов слышимых и абсолютно безмолвных тотчас принимаются говорить о чем-то другом - о началах, поражениях, победах, невероятных сражениях, ожидании и самих словах, из которых берет начало речь, обращенная к ним же самим. В этом круговороте бесспорно завораживающей логики и воображения отсутствует одно - возможность преткновения в каком-либо вполне бессмысленном вопросе. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что я намеренно отступаю от чрезмерно легкого сближения ответственности и способности отвечать, то есть изменять свою природу в со-ответствии с вопросом, или иначе говоря, способности превращаться в идущее навстречу спрашивание. <...> как видите, я намеренно не приемлю возможность избежать в риторике даже не столько ответа, сколько самого вопроса - почему я (если кто пожелает, чтобы сказанное было обращено к нему) в какой-то момент своей жизни предпринял (не нашедшую между тем своего разрешения) попытку отыскать предпосылки или, если угодно, "истоки" моего тяготения к заведомо бесполезному занятию сочетанием слов. At last I am sitting down watching the rough edit, I was struck by the nostalgic tone that suffuses the text and must therefore have suffused our letters. And in retrospect it seems paradoxically prophetic that we experienced 'getting to know each other' as an experience with the past, since, at least, in your case, the world in which you became yourself has suddenly, if not apocalyptically, vanished. Но я рад, что дело идет к концу - конечно, было бы намного легче знать раньше, что все дело с изданием (хотя едва ли и теперь представляю всю эту историю с нашими письмами в виде некоего романа, невзирая на то, что в разные времена мне удалось чуть ли не во сне увидеть несколько его фрагментов) все же обретет форму. Maybe cultures - societies - are always manifestations of the past, rather than the future. Certainly we look back when we attempt to explain them. И речь идет не столько о "формальном решении" (в чем я себе привык доверять), сколько о его включении в ряд существующих в моем опыте и представлении фактов. "Книга", "дверь", "мокрые ботинки", "действующее законодательство", "сны", "телефонный звонок", "пиво" и далее - мало-помалу обретают равенство в законах своего существования и потому относятся ко мне в той же мере, как я к ним. Какого рода эти отношения? Легче всего их будет описать, как состояние неустойчивого перемирия. So what we wrote, when we wrote to each other, was a kind of history. Но возвращаясь к "письмам" и тому времени, могу лишь догадываться, что раздражение возникшее у тебя при обращении к ним (by nostalgic tone, ponderousety, etc.) и посещавшее меня всякий раз при воспоминании о них спустя время (что, признаться, и было, причиной более, чем рассеянного чтения последней версии), вполне объяснимо. Хотя бы потому, что любое письмо (not а "letter" in this case) по своей сути амбивалентно. That's very different from poetry. I remember (more remembering!) when we first met. Because of something you said (or something I thought you said) I was drawn to know more of your world, but the world in question was not 'Russia' but 'writing' You said that as you wrote, each word changed from Russian into the language of another world. Будучи действием стирания настоящего, включая и самое себя, оно производит пространство актуальной незаполненности ("ожидание", "предвосхищение") - именно это "пространство" становится искомой "продукцией" письма, его "произведением", "производным": его реальностью.
Или же только возможностью реальности - тем нескончаемым началом, на которое изначально обречена литература, чем бы она ни притворялась. Пишущего, если, конечно, он не "просит", скажем, о деньгах, спасении, сострадании, можно сравнить с человеком, который, пытаясь рассказать в чем-то важную для него историю, постоянно перебивает себя же невразумительным бормотанием типа: "нет, не так, все по-другому". Но что значит "по-другому"? Что означает "все", что означает "нет так"? А как?
In wanting to know this other world, I never thought of it as unrelated to Russia - I knew you weren't suggesting that poetry constitutes a fantasy realm, utopian or otherwise. Nor did I think of it as unrelated to my place. Nor, finally, did I think you were suggesting a 'universal' world - free of national boundaries, language barriers, etc. But I did think of it - and still do - in your work and in mine - not as 'the real world' but as 'the world becoming real. Но именно это "нет, не так...", насколько мне кажется, залегает в каждой клетке письма, являясь, по-видимому, одной из главных его мотиваций. Что же было в нашем случае? Когда мы обменивались мнениями по поводу совершенно непритязательных слов и понятий, которые, казалось бы, не должны были вызывать никаких сомнений? Но, как бы писатель ни стремился сказать сразу и обо всем, это, непостижимое с одной стороны и понятное с другой стороны, задание предполагает в итоге одно - неудачу, пресловутое "нет, не так". And, curiously, despite the emphasis on memory that dominated our letters to each other, in combination with the images of future work it is now not unlike a poem - a world becoming real. В моей последней книге "Китайское солнце" есть фраза: "Предпочтительней писать о том, чего никогда не будет - о смерти; или же о том, чего никогда не было - о детстве". В самом деле... прошлого как бы и нет. Отдельные факты, удерживаемые памятью в той или иной последовательности, сцеплении, остаются изолированными фактами, извлеченными из определенного момента, времени (не исключено, что отсюда порой проистекают их таинственныя и головокружительные очарование и несхватываемость). А впоследствии становится другое - не сами факты, не сами события - но то, как они соотносятся с моими/твоими намерениями сегодня, с моим сегодняшним желанием, интенцией. When we wrote to each other about 'books', we both tended to focus on our first experiences with books - our first encounters with them, when they were still strange objects, almost forbidden, or at least arcane, containing indecipherable information, hidden knowledge - and, of course, promise. That's fine - though perhaps obvious. Neither of us spoke of the more 'technical' uses of books - the ways poets plunder books (and not just dictionaries) for words - for worlds that gather around words rather than emerge from the very limited imagination of an individual. Позволительно допустить, что прошлое в какой-то мере также приходит из будущего, из его предугадывания. Мы как бы движемся навстречу тому, что уже было. Странные воспоминания, странные наития... Вероятно, припоминания, вовлеченные тогда в наши размышления, проецировались в желание увидеть/написать как прошлое, так и настоящее (в котором мы находились, включая само действие письма), - в некоторое, отстоящее вовне, будущее. Иными словами, сам проект еще не завершенного обмена также сносился нами в ряд воспоминаний, о которых шла речь. And neither of us spoke of bibliomancy - or of that weird form of it that makes a book, opened at random, seem to be speaking of just that idea or object about which one had been thinking. So, for example, I open a book here on my desk. It's "Error 404", a text I am to teach this week, and this morning I opened it at random (and, as it happened, at page 93), where the first sentence to jump to my eye says, "Neighborhood means: dwelling in nearness." That's terrific! Politically - and, of course, geographically - nearness may be difficult, unlikely; artistically, one can imagine that it is becoming inevitable.
Как и у многих других, дни, данные мне, складывались сами собой, не требуя с моей стороны усилий. К примеру, я замечал, что лгу невольно и незаметно для себя (чаще для окружающих) не столько из-за боязни попасться на различных прегрешениях, из привычного переживания которых ткется ткань нашей монотонной жизни, но по причине тонкого, отчасти злорадного удовольствия изменять соотношения вещей и соотнесенности между мгновениями происходящего, словом, из желания наделять факты значением событий, ключи от толкования, или, если угодно, понимания которых находились бы в моих руках. "Лу, злые люди не поют песен, - отчего же их поют русские?" - o, бедная-бедная голова, горный воздух, гремящий пуговицами и металлическими орлами, фортепьяно, постукивающие в садах Гесперид: "как же ты мог жить столь долго, скрывая ото всех столь искусно скроенный главный замысел своей жизни?!" Если бы не чертежи, оставленные сестре в предгорьях Нью Йорка, что бы досталось нам? Хрустальная ваза? Молот? Валиум? Окружающее точно так же стремилось сделать меня своим соучастником, вовлечь под любым предлогом в свой сценарий, чтобы окончательно уверить в собственной нескончаемости, в которой любая его ложь рано ли поздно, но неминуемо оказывалась истиной. Только я могу свидетельствовать о критянах. Именно поиски "истины" предлагались мне в виде инструмента познания. Здесь уместно напомнить слова Миямото Мусачи, пользовавшиеся в 70-е у советской интеллигенции необыкновенной популярностью: "Под воздетым мечом разверзнулся ад, вселяющий дрожь в твое сердце. Но продвигайся только вперед, ибо так обретешь землю сияния". Впоследствии интеллигенция переметнулась к кротости. И в том, и другом, и третьем - "к себе", "в себе" и т.д. - таилась западня какого-то туманно-фальшивого вызова (как мы могли забыть о святости!), который, к сожалению, я не мог принять, предпочитая свое собственное время, где, будто во сне, мир видит себя таким, как он есть, каким он отражается за стеной моего зрения. Развивая это положение дальше, можно было бы выразиться следующим образом: если мир мертв, ты должен доказать ему, что ты мертвей его во сто крат. Только полное безразличие позволяет мне перемещать пальцы по клавиатуре. Неуловимое смещение тени на потолке. Я не сказал, что я пишу, скорее я перебираю возможности сочетаний, скорости их смещений. Так ли существенно, если в какой-то момент мне сумеют доказать, что он жив. Привычкам не следует отдавать слишком многого, освобождение грозит катастрофой. Существенно иное - мера взаимоотношений. Но, разумеется, в изложении такой логики нет должной последовательности и много очевидных изъянов. Касательно определения меры... Смерть бессодержательна. Именно у ее края мы проливаемся. Споткнуться и все пролить на пол. Части воображения. Мало того, что оно поспешно, оно - необязательно. Тем лучше. Я как и все, ничего не понимаю из того, что говорю. Разве возникает в моем воображении картина "дерева", когда я произношу слово, его обозначающее, или еще глубже впадаю в полусон руки, перебирающей пальцами по клавиатуре? Небо за спиной располосовала молния. Я даже склоняюсь к определению - открыла. В данный момент оно мне кажется точнее. Но сколько просуществует данный момент? И что означает в моем случае "точнее"? Хочется ли мне передать наиболее полно ощущение, которое я, допустим, испытал, заметив отблеск молнии на экране, либо совершенная неспособность продолжать (праздность? слабость? равнодушие?) побудила меня обратить внимание на первое, что попалось на глаза. Если передать, то кому? По какой причине? Каким бы я образом смог описать (согласен, это отнюдь не описание) неразличимость? Приходится признать, что никакого дерева нет. Как нет и смерти. Поскольку нет никакой картины, образа ни того, ни другого, ни третьего. Что возникает в сознании при чтении чисел? Возможные иные числа? Может быть последнее, что осталось с поры детства - это мерять все яблоками, загибая пальцы, перекладывая камни. Точно так же я вынужден воображать себя так, как видит меня кто-то. Если убрать кого-то, вероятно - говорят - возникновение ощущения самого себя, обязанное самому себе. Но я ничего не понимаю. Я животное (оправдание). Точнее, растение с изъеденными кариесом зубами, изнывающее от слепого страха ежеминутного пребывания здесь или там, или до здесь, или за там. Это, как в темноте, наощупь, вместо привычной стены ничего не нащупать. Рука проваливается. Иногда я делаю вид, что мне грустно. Потом забываю об этом. Иногда я разговариваю сам с собой, думая, что только одни звезды слышат меня, но мне отвечают люди. Приходится им отвечать, то есть, скрывать истинные мотивы моего желания говорить. Иногда я рассказываю им о дереве, о черешне, которая росла у меня во дворе, накрывая ветвями крышу дома, и под которыми весной и в начале лета я скрывался все то время, что мне было положено находиться в школе. Количественный перевес умерших над живущими понуждает верить в неизбежную встречу - иначе не понять, чем определена столь неукоснительная последовательность в соблюдении такого неравенства. Вот, и в книжном шкафу, вышитые дубовыми листьями шелковые занавески были неодинаковой длины. Завтра будет вечер. Сегодня он уже был. Неравновесие света есть природа зеркала.
Надо отметить, что иной раз мне доводилось переживать значительные неудобства. Но было ли уж так велико вот это самое желание? И точно ли неудобства казались столь затруднительными? Ответить на вопрос видится мне затруднительным.
Повторяю, все оговоренное и многое другое происходило как бы незаметно для меня, и память никогда не вовлекала меня в зеркальные лабиринты сравнений. Никаких прорицаний. Признаюсь, сначала мне был чужд вкус аналогии... Позднее я почувствовал, что подобное ощущение может означать отсутствие вкуса поражения. О котором, откроюсь, я постоянно мечтал, так как мне стало претить разреженное "сияние" нескончаемой победы. Прошел поезд. Ворота осени. Проблеск листа, вмерзшего в воздух. Сделать шаг или два - к легкой ветви; тяжесть ветра ей непосильна. Далее шепота тихий холод в ясности пробуждения. Птичий крик, дыма извилистый стяг. Липкие от пота пальцы не позволяют преисполниться подлинной бескорыстности при работе с клавиатурой. Каждое прикосновение требует завершения. Даже в точечном щелчке. Завершение как единственная мера в кружении на месте. Вопрос: что увидит луна, когда кончится дождь, когда пройдет поезд, когда захлопнутся ворота осени? Письмо оканчивается банальной фразой: "только взгляд, настигающий уходящий взгляд - таково зрение, ведущее к тому, что зовется вещами". Мне не нравится. Мне отвратительна погода, лица, обрывки фраз, которым я обречен. Несколько растративших себя вещей, речь, разбитая как сельская дорога, липнущая грязью, - увидит ли себя луна на рассвете в этих местах? Тонкие диагонали пейзажа импонируют.
Мой босс часто упрекает меня в пренебрежении обычными (?) правилами, а без них, по ее утверждению - какими бы прозрениями мы (вот-вот: кто это - мы!?) ни блистали - мы (опять "мы"!) не смогли бы заработать даже на чашку кофе. Terre arable du songe! Qui parle de batir? - J'ai vu la terre distribuйe en de vastes espaces et ma pensйe n'est point distraite du navigateur, гласит screen saver. Я пользуюсь чужим компьютером. Равно как деньгами, словами, снами. Будет ли моя смерть чужой в той же мере, как жизнь? Так надо. В подобных случаях я обычно молчу. Мне не о чем. И в других также. Объяснение в любви - есть упражнение в косвенности использования метафор. Приближение нескончаемо, подобно падению в призрачных колесах галактик. Удивительно, но мне не с кем спорить. Действительно, так надо. Я даже готов допустить, что - незачем. Но каждому необходимо спешить, по щиколотку в воде, под сводами черных тяжколиственных деревьев, спешить, поскольку наступает вечер, обнаруживая в спешащем еще большее уродство. Я забыл, зачем я стал обо всем... этом. Необходимо произвести немедленный переучет всех происшествий, послуживших импульсом для занесения их в реестр реального, и прежде всего никогда не случавшееся. Кажется, с самого утра, когда я добрался до конторы, не переставая лил дождь всегда и потом. Тогда посредством яблок мы вели счет дням. Также изменения прилагательных по всем сюжетным линиям. Я сварил кофе, опрокинулся в кресло перед замызганным Zenith'ом, а дождь все шумел в колодце за окном, от которого отделяли всего-навсего стекло и белые жалюзи. Вот тогда-то телефонный звонок, приходит ему на ум. А никто и не подумал поднять трубку. Кофе готов. Разумеется. Включился ответчик. Никогда и никому не оставляйте никаких сообщений. Все сообщения - туман, оседающий изморосью на крыши, тротуары, предметы. Голос, туман, неопределенность, а когда и просто жестокость. Какая, возникает вопрос? Кому жаловаться? На чье имя писать заявление? Не знаю, не знаю - принято так говорить; как принято, так и говорится. Вот - дерево. Дерево ли это? Нет, это карта Петербурга.
"<...> если ты где-то там, то проснись! Нет? Ну, тогда слушай. Я мало что знаю касательно предмета, который тебя интересует. По-видимому, подробный отчет потребует более долгого исследования. По поводу же самого культа - я не совсем уверен, какой ты имеешь в виду. Я про это мало что знаю, знаю одно, что поклоняются они духу Гурджиева, и их место расположено часах в двух езды от Сан Хозе. Народу там собирается до двух тысяч, иные живут постоянно, иные приезжают. Чем занимаются, пока не разузнал, хотя узнать можно, но это потребует, как уже говорилось, времени, - боюсь только, начнут они меня охмурять. Ты помнишь ту историю с мормонами? Сначала я было подумал, что тебе нужен Дэвид Кореш, но он сгорел в буквальном смысле, после того, как ФБРовцы напали на него с танками. Очередная жуткая история. Сам Кореш (с ударением на последнем слоге!) занимался распечатыванием семи печатей давидовых. Почти все уже распечатал, но стукнули на него, что его люди собирают оружие у себя в бункере. Собирали они, причем, абсолютно легально, но слух был, что переделывают кое-что в автоматическое. Вместо того чтобы выследить его и взять за пределами бункера, ФБР дождалось воскресенья, когда все 80 человек, включая женщин и детей, сидели в бункере и занимались своими печатями, окружило их танками и вертолетами и предложило выходить по одному. Потом принялись их распечатывать. Те отстреливались, продолжалось это дело неделю, потом просверлили дыры и стали газ пускать, тут все и загорелось - может Кореш с корешами сами подожгли, а может и нет, короче говоря, все сгорели, человек десять выжило, их теперь судят, а заодно и ФБР судят за полное и преступное непонимание сути культов. Я считаю, что ФБР тут (а вместе с ним Управление по делам алкоголя, табака и огнестрельного оружия, которое, собственно, всю операцию и провернуло) оказались полными мудаками, которым захотелось покататься на танках и пострелять - и результатом чего явилась такая вот трагедия. Ну все, бегу работать, в забой, в шахту, давать угля на победу капитализма. До понедельника мне не звони, я отъеду в Пол-Альто, там в филиале, скажем так, возникли осложнения. Тоже... странная ситуация. О чем при случае".
На том конце положили трубку. На этом конце было весело. Там - не уверен. Старик, ехавший на велосипеде с мешком за плечами, смеялся как зарезанный. Она стала появляться во снах. Будто бы я на конференции где-то в Нью Джерси или Милуоки, возвращаюсь в номер, чтобы переодеться, одежда от жары прилипает, как плащ Деяниры, отчего ее нужно скатывать наподобие резинового клея, в египте которого спят туго спеленутые насекомые и во сне своем медленно и непреложно идущие к сердцу, тогда как она уже появляется из душа и, главное, она (что я теперь знаю наверняка) есть сестра той, которую мне нужно непременно вспомнить, и чье имя высверливают в мозгу оттаивающие хризалиды, обещая нет-нет да и воссиять образом буквы, не причастной, не пойманной, пустой и хрупкой, как хитиновая поросль надежды, а я только угадываю ее черты в чертах ее сестры, а в окне совершенно другой вид, кажется, Каменец-Подольский... но собрать их во что-то неопределенное нет никакой возможности, есть только то, что есть. Невероятно трудно избавиться от одежды. Под длинным халатом на ней кроме белых носков ничего нет. Она садится на край постели и, раздвинув ноги, наклоняется, чтобы подтянуть носок. Уверен, она испытанно сообщает чарующую необязательность суждениям и, паче того, воспоминаниям, но за нее приходится расплачиваться многим. Влажные волосы - последнее, что оставляет сон. Остальное придумано. Однако мне нужно лицо, что так и не нашло собственной неопределенности в пределах путешествия.
Мой босс (женск. рода) мне нравился... Появление смеющегося старика на велосипеде понуждает вспомнить иерархию карт Таро. Элегантна, приличные связи. Иногда мы утешаем себя на ее столе, где ни единой бумаги. Когда она вступает в брошенную на пол юбку и слегка наклоняется, будто ей нужно ступить в бассейн или подтянуть носок, она становится похожа на Фани Ардан. Тогда мне опять становится неловко за свои грязные ногти. И я в очередной раз лгу, давая в душе себе слово никогда больше их не грызть. Минуту спустя я забываю о наших отношениях, зная, что ее воспоминание о них (обо мне) будет длиться не дольше; - и так, до тех пор, покуда, выйдя из душа, не предложит "выпить-день-был-длинный". Wind chimes. При всем том, ей не отказать в проницательности. Но, прежде всего, в умении одеваться. Возможно, ей присущи и другие качества, но, догадываюсь, намного менее ценные, чем только что упомянутые. Как ее зовут; звонок телефона; воображаю, что это Карл; думаю, что ему еще долго будет не до разговоров. Факт третьей чашки кофе; сигареты, нескольких фраз; точка с запятой. Податливость клавиш упоительна. Реальность неустанного стирания. O. Лоб так не считает. Подперев щеку рукой, он читает, кося глазом к шевелящимся губам (день выдался нелегким):
"На месте, где произошло совпадение старухи и машины, было пусто. Небо заволокло белесой пеленой. Все стало расплывчато и скучно. Диких посмотрел под ноги, (интересовался ли он следами? Любопытно, кто звонил...), пожал плечами: из окна первого этажа на него глядело лицо не то ребенка, не то - без возраста. Разбить банку. Отпустить птиц и червей на волю. Перед условным существом стояла шахматная доска. Белые имели позиционный перевес. Дождевая капля упала на черную клетку. Ребенок (или же урод?) - был небрит. (Кому оставить безбородое лицо лилипута?) Слово всегда переносит в расплетения письма, в прядях которого не существует места слову и для слова, даже для самого определения "слова". Урод молчал. Так молчит земля, смущенная искажениями в соотношении звучаний. Сочинение, повествование - надежда на приобретение движет ими, мной. И потому столь невыносимо долго идет дождь, умножая себя в гуле колодца. Возможно, что повествование является одним из условий развертывания рассказа, а точнее образования узла, то есть, одновременно как связей, средоточием чего он является, так и "места".
- Со всеми играешь? - картинно прищурясь, спросил Диких. - На деньги? - А сам пощупал пиджак, извлекая из внутреннего кармана сигареты; повертел пачку в руках. - На деньги, любезный, играть дурно.
В небе три солнца. Маловато будет. Но мы дождемся десяти. Главное, терпение. Спешить некуда.
Некоторые из нас помнят месяцы затяжных, тягостных дождей и ночей, казавшихся ночами втройне. Угасшие огни хранились на дне зрения, точно камни неправильной формы. Попытайся снять. К тому же мокрые листья, как много, или же насколько мало, и тогда зачем. Сожженная материя слуха, кремневая пыль, сады, которыми были расшиты хромированные склоны никотиновой бессонницы. Туман там едва-едва перемещает не сотканные пространством мгновения - они существовали, но будто до своего "рождения", а остальное относилось к ряду незначительного, в том числе и простирающиеся тени некогда именовавшегося страхом. Но что для тебя никогда не существовало, изначально упускалось из вида, из словаря, синтаксиса, будто за привычными оборотами речи иногда слышалось как бы не твое бормотание, мешая вернуться в только что уже сказанное. Как рыбы и травы, веки, как зрачки и строки, - дальше видишь его идущим под сводами сплетенных черными кронами деревьев. Каждая строка, слово, знак, возникая в средоточии ничто (узел), подобно чистейшему пеплу погружаются в лимб. Не этого ли ты искал? При некотором увеличении - распахиваются дверцы, позванивают часы, ничто и никто не появляется. Разве не удивительно, что Новый год празднуется всю жизнь? Мы предполагали, что это случится только один раз, на исходе октября, когда понесет изморосью с залива, а птицы будут стоять на ветру, поднимаясь выше и выше, неподвижные и бездеятельные, как ангелы, и ожидая этого мгновения, думали, что оно никогда не наступит. Нам солгали. Напрасно жечь сторожевые огни и бумаги, куда более как напрасно собирать черные хлопья в надежде на буквальное воскресение. Контур распадается вначале на прерывистую линию, затем на ряд соположенных точек. Они больше не обнаруживают иллюзии продолжительности в неотступном следовании за ней глазом, пространство также иссякает - точка безмолвна и точна, также как и прерывна в безначальности.
- Кто хочет, тот и играет, - кивнул ребенок. - Кто хочет, тот и проигрывает. Но, если честно, народа мало здесь ходит. Все больше ездят.
- А ты что, все время здесь?
- То есть, что значит "все время"? Я здесь родился. А вы?
- Я родился там... - махнул Диких за плечо. - В Вашингтоне.
Лицо младенца, склонившееся над фигурами, было исполнено незримого вдохновения.
- Был такой район на Васильевском. Деревянный, - пояснил Диких и прокашлялся. - Бараки, дома такие из досок. Словом, Washington.
- Нет, - после раздумья сказало дитя, - там я никогда не был.
Затем сделал ход белой пешкой. Диких глянул на доску.
- А где ты был? - спросил он.
- Да я мало, где был, - сказал урод и нагло двинул черным ферзем.
- Плохо, - произнес Диких. - Вот, тут ты поступил опрометчиво. Коню здесь угроза. Надо уходить.
- Далеко не уйдешь. У меня ног нет. Давно, - житель первого этажа потер небритый подбородок. - Зато у меня необыкновенно сильные руки. Однажды, когда на меня наехал автомобиль, я руками поднял его над собой. Чтобы не предаться погибели.
- К чему ты это мне рассказываешь? - спросил Диких. - Ладно, гляди... Очень хорошо. Пойдем-ка офицером сюда, господин Прокруст.
- Какой "Прокруст"? - не отрывая глаз от доски, сказала старуха. - Это еще что за новости? - На доску упала капля, на черную клетку. Капля медленно разлетелась на пыль. Клетка стала призмой.
- На дороге промышлял. Как ты.
- Да какой же вы путник! Вы в машине ездите, с револьвером, с женщинами, с телохранителями, с телефоном да музыкой.
- Ничуть не бывало. Я на катере езжу. Сто лет, как на нем катаюсь. - сказал Диких.
- Жалко.
- Чего это тебе вдруг жалко? - поднял глаза Диких.
- Не знаю, а если точно - здесь старуху машина зарезала час назад. Ее жалко. Вот, закрою глаза и представляю, как шла она бедная, все потерявшая в жизни, и лучшие годы, и любовь, и вкус к приключениям, шла и думала, наверное, о детках, не только думала, но и молилась за их души...
- Постой, какие же у старухи детки! - Не выдержал Диких.
- А почему у пожилой женщины не может быть детей, если у ней было все на свете?
- Так ведь она все потеряла!?
- Ну, а детки, видно, остались. Так было на роду ей написано.
Теперь хорошо было видно, что никакой это не урод, а прелестное дитя в голубой батистовой рубашечке, и волосы его отливают червонным золотом.
- Вот, тут напротив. Всмятку, - продолжало златокудрое дитя. - Ух, смотрите, дождь какой пустился. Здесь такая улица, что всего иногда жалко. Труба.
Не отрываясь от доски, полуребенок, полуурод - показал рукой на живот Диких. Диких машинально подобрал живот, оглянулся, поднял голову к небу. Стало моросить. Стало скучно и долго.
- Не поверите, но я даже рад таким обстоятельствам, - продолжал из окна шахматист, жуя деснами. - Скверно вы пошли офицером! А я грешным делом подумал, вы меня задеть хотели вашим Прокрустом... Мол, без ног и все такое. Я-то читал про Прокруста. Ах, не надо было вам тогда пешку отдавать.
Диких не услышал. Он резко повернул и пошел прочь по Кирпичному переулку к кассам Аэрофлота, чтобы выйти к мосту, к Стрелке, туда, где ждал его катер, и где вверху, справа оплывает ангел, обернутый конфетной фольгой, со сладкой трубою в руках. На нем был его вельветовый пиджак горчичного цвета. Рубашку он сменил после обеда на темную, шелковую. Описание одежды одно из важнейших условий поддержания напряжения интриги. Иногда служит в качестве ретардации.
- Постойте! Куда вы! - услышал позади. - Вы выиграли! Стойте же!
Диких остановился, не понимая толком, о чем речь. Ему хотелось немедленно написать письмо, в котором он, не обинуясь, изложил бы последовательно свою версию: Иван Петрович подходит к окну и думает, что теперь он знает, отчего на него с утра накатывает неизбывная тоска. Вера права, думает Петр Иванович, он действительно стар и уже ничего не сможет ей дать в жизни. Нужно смотреть правде в глаза. И еще думает Сергей Михайлович, что все проходит - и любовь к Вере, к детям, к делу жизни... От нахлынувших чувств он плавно опускается на колени и целует порог балкона.
Когда Диких оборачивался на голос, он едва успел увернуться от металлического полтинника, мелко и неумолимо летевшего ему в бровь."