|
* * *
1
Нищие знают, что когда со ступней у них срезана кожа раковиной солнца, они
не по камням ступают, скользят суфиями
над кварцевыми осколками,
плоским камнем над перламутровым слухом,
жизнь красящими напоминанием,
что мы также состоим де из воды,
как река половинная, несущая паруса и олово.
Но, кропя тропу зерном раздробления, знаем также, что
никогда не нужно звонить,
если в миг до телефона не дотянуться, –
фарфора страха, представляя тогда же смутно, что
птица (тебе она что?), та, имени не узнать вовеки,
состоит из материи расплавленного расчета,
падения в воск взгляда, пустот плавания виска,
фальшивой клавиши и свинца
в дырах суждений, – иначе, того, что речью
складывается в блаженную марлю дерна на веках,
сплетенных в "нет" полдня, в рожь,
во вращение флюгера.
Ржавчина содержит иные частицы.
Разумеется, обширно знание, как глаз птенца.
Каждому. Дано поровну. Но равно узко невероятно.
Об огне зная, укропе, признаниях на рассвете, когда
рот черств, как беспамятства срезанная кора или
ступни косые суфиев, – никто не скажет, что надо.
Зачем убитые; кто они, кто без одежд с нами, кожи, –
одна сукровица и ничего больше.
Словом, зачем буква в дуге магнита.
За чем другое следует? За предыдущим?
Мгновение сладостно, как вести линией
по срезу страницы. Ладонь стерта,
мелькание на излете спицы, где ветвятся боги.
Ничем склеены черепки лета, тесны улиткой; там
угол бегства, детства иней, где одно слюдою смеха
вслаивается в другое.
Там – ничего. Ни одно обещание иным не станет, –
любовь рассматривается как шелушение, в котором,
словно в арктический спирт окуная пальцы,
ты задохнешься на пряном выдохе,
переходя в сознание меры, прямо молвя –
"пейзаж прекрасен".
Мне никто не должен. Я тоже. Остальное
останется ждать с необходимым изъяном.
Что будет буквально дописано в новом году.
Какую речь выберешь в нем?
Какие сны вышьешь?
Беглой иглой, заточенной в холст,
в цветные нити и как расскажешь, что раньше время:
иным – бисерным; и было ли; – но продолжай,
ведь есть только несколько вех словесных.
И они рассыпаны галькой вдоль быстрого берега,
вдоль дюны и смеха в низине. Никому не нужно.
И тебе самому, поскольку странное мужество
возникает не за горами,
не в латунном ободе кашля, не за гребнем темени,
но идет в лоб ровно, под стать прямой речи или
улице утром, горлом во сне ночью, теснотою умной,
которую никому не отдать. А никто и не примет.
Мне то что... Кому, в самом деле?
Если, конечно, меня не будет. А если есть,
то – реки в красное море, пряди соли и белые черви
в черные ночи смородины,
и моря постоянны, и мы утешны, как скудные вещи
над гладью имен в пасмурную погоду.
2
Никогда не знай. Откуда известно, что это весна,
а не известь?
Почему тебе нужна не победа,
а старый трамвайный билет?
Но там, где все было всегда, пролегают рельсы, бурьян,
Locus разбитого в облако локтя. Там ни цвета и
ни того, что предлагает заглазный "Kodak", –
сломанная подкова, стрекоза за веслом
флегрийских влаг, по срезу размокшая книга.
Там в мочке уха пчела и смутное очертание себя
отрывает серьгой коросты. Но поставь палец туда,
где разрыв книжной аорты. Сломи сустав.
В крапиву рукой, к улиткам, где приливы вихрятся, –
потеряешь разум, как карст желание.
Как карп мальчика. И кому надо: известно.
И кукуруза так же, как и петунии.
Да, эти мол вечера вина, безмолвия,
окончаний пальцев. Поэтому пишется после:
"победа и лебеда".
Остается лишь – место. У костра нищие боги.
Оставались. Были. Ни с кем не делились местью.
Зависть их отличала. Как пустые кувшины.
Но мы жили. Не зная, откуда известно то,
что изначально неведомо.
* * *
Повременим. Листва, сухость, отсутствие насекомых.
Это – Пергамский фриз изменений,
тени заменяют отсутствующие части глаза, –
фаянс исторгнут.
Могущество их несомненно,
однако пыль пожирает героев, пыль пожирает себя
на свету во вращении, в солнце, в луче ночи –
Единственном, расщепляющем сердцевину ежечасной
буквы, бесплoдной битвы... Дальше ступить.
Не двигаться. Здесь так положено. Так принято.
В чем не приходится сомневаться.
РЕКИ ВАВИЛОНА
Во всеоружии пространство явлено,
как будто можно тронуть его все пифагоровы жилы,
иногда прямые, словно тростник двоения,
как рта след на осенней слюде,
за которой гончарная поросль отступает
волна за волной в пределы эхо,
гася сторожевые огни и в охры пену
погружая сонных, как эреба капли, птиц плетения.
Иногда легки они пальцам, как паутина над полем
порожним, опрокинутым в ледяные трилистники
полудня, и потому в явленном не множатся тени.
Поэтому, к примеру, чайка – лишь влажная ссадина
и мысль проста, как приветствие, – подпись под ним
блаженно стерта, под стать расстоянию, а само
увядает в воздухе, ничего не меняя в окрестностях.
Никто не произнес его. Никто даже мельком не видел
того, кто был рассеян кустом бересклета, росою, –
парение. Но даже если коснется дна зрение,
неиссякаемого пробела, луна, со светом совпавшая,
как вещь с доказательством ее права на место
и свершение речью, в угольном ободе останется рдеть
как прежде. Тускло, наподобие времени, сведенному
в точку еще не разбившей числа материи.
Если достоянием рек зрачки в чешуе слез и жажды,
Сухому руслу – жало листа, несомого тысячелетием.
И даже смерть здесь только слуха горсть,
вот почему – парение.
Не блеск покуда, отнюдь не слепок,
еще не пора горла.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И этой обусловленности длинная тяжба тяжести.
ПОЛИТИКУ
Когда ты, политик, сны разговариваешь по тетради,
потому что остальное грифелем страшит ночью,
синим, и крошки не пленяют, ни сброшенная одежда,
ни двери, ни вены на икре, ни глаза,
ни стекло во льнах эгейских –
стимфалийские соловьи свищут тебе безвозмездно,
и кто-то думает перед сном, что ты прежде играл
в круглый футбол, бил колено вдребезги, был ливень
на головы, но никто не был помазан, алмазный...
но сколько детского горя в глине было, которая
повиликой нас обвивала, политик, сколько нежной боли
было в сыпучем гравии, хрусте; потом к ручью
мчались через воскресный народ, и народ не ведал
о том, что мы проиграли, но, может быть, мы тогда
победили, – протоколы истлели
в цементных чертогах;
не помню, зачем вечер над столом стлался, когда
ты стащила с себя джинсы и попросила за это книгу,
название которой забыл... – а сосны ночью?
Политик, не забывай, как тащил головастиков
из дождевой бочки.
Там водоросли – фригийской, пентатоновой мелочью,
а ты себя видел и пытался яхту пустить в водоеме,
глубина его превышала тебя (ты бы там захлебнулся),
а ширина была так, по пояс, что кораблик
казался хлебным, а потом пустые годы, стройные,
словно стропила пожара.
Не окончанье ли явное подвигло тебя угодить
не в малину, но в сухие листы,
по пересчету косы под клевер. Плакал ли ты,
когда понимал, что голоса тех к тебе не доносятся.
То есть, они доносились, звали на ужин, домой, но шли
как бы сквозь, потому и решил, что воспрянешь
и все будет сделано, наденешь пиджак, прочтешь
историю о героях, но мята тебе говорила, что
много печали, никого нет, мать там, откуда малина,
сухие кусты, жуки златые зовут откуда,
но чему никто не откликнется,
потому что другие сезоны, а ты давно взрослый,
политик, ты – мыслишь законы, забывая,
что правил не понял простой математики;
так и в школе,
где впервые вдруг ощутил запах соседки по парте,
когда империи рушатся, словно мел на доске дочерней,
когда платье тебе не досталось,
а если осталось, то никому.
Где ты не то, чтобы проиграл, просто здесь не успеть,
устал, то есть, когда ты пришел, никого уже не было,
кроме куста бересклета, белой малины,
закрашенных окон.
Вот откуда, когда уходим, ты возникаешь,
недоуменья полон, будто мести, –
было бы просто говорить о футболе, продули сдуру.
Чрезмерно небо.
Деньги не поддаются терпенью. Из нас кто-то
изводит – имя, склонение. Неким
доступно одно сновиденье, другим два:
различия никакого – одно им видится, чердак,
жара лета, медлительные руки,
снимающие паутину с ладони ветра.
* * *
Озерный надломленный лед.
Край слишком прост, чтобы сказать: вот –
потускневших полей алфавита сколы.
Однообразны послания птиц,
но начинающий их разбирать
к концу забывает о чем он читает.
Так и этой весной юг возвращает стаю за стаей,
так и в этот год они возвращаются югом,
как плата за песчаник под снегом,
нашаривающий шаги;
случайна где ягода;
радуги темнее в нижнем пределе,
идущих в руслах глаголов
волокнистых времен,
Порезом неслышным осока вспыхивает поочередно.
В праздное ничто иглы
прикосновение сводит расстояние до облака, –
если шатнется к югу. Ночь подступает к корню,
поит притворенной сладостью.
Если, конечно, ветер вслепую
у горящих помойных баков.
* * *
Разные бывают landscapes, разные визы,
Телефонные звонки, коса флюгера –
Волос плетение, и все сзади. Либо лезвие.
А у тебя все впереди и между.
Не давай мне денег, а если
Любишь – принеси полотенце
В пробитый душ, склянку не-яду,
И не беспокойся, не тревожь понапрасну
Ни меня, ни соседей –
Не видать тебе следов пурпурных
На санитарных откосах фаянса
На сахарных склонах храма.
А если бессмертен я,
То и твое приближение меркнет
На зеркале бритвы, взошедшей в тумане
Дыхания. Не бритва вовсе,
А просто вода полыньи под ногами.
ВСЕ БЫЛО ВИДНО КАК ДНЕМ
Стрела, роняющая оперенье в заглазной впадине.
В отсутствии прилагательных совпадение стеблей.
Шаг означает стремнину, предикат, половицу,
Истории о двух берегах, меняющие родство.
Они проходили сквозь нас, в их зрачках думал закат,
Под стать литере в области переменного выдоха.
Предприняв простое усилие, в них
возможно было увидеть
По кровле бегущее дерево, стяг, трепетавший на лезвии.
Детской сепии золото, размотанный кокон Клее, –
В ком облако ослепительно известью.
Tо, что им предстояло, в недоумении терялось,
как поезда в расписании,
В бережных брызгах хрупкие меры не давая понять.
Тише ангела пыли, колес расслоения звучали их голоса,
Излученьем незримым. Вдоль которых, как вдоль
Рaсплетенной войны, стояли в стекло одетые птицы
На перекрестке 4-й и Cristopher. Где нас всех осенило,
Что их можно удачно раскрасить – кармином и охрой,
И все же предложение было не принято, так как
Гул полой бронзы, который они источали,
Позволил все видеть, как днем. Коснись, и услышишь
Терпение терпкого цвета на террасах заката.
Непонятно другое, почему именно здесь?
В двух порывах от ветра? Почему не вчера?
Хотя, до холодов еще далеко.
Причем не найдены вещи...
Для путешествия к ссадине, где полярная капля
Растит очертания, и черту очевидного тела
Рассекает воздушная нить,
чье имя мнимая собственность.
Неизвестно, кто вслед им сказал, провожая глазами:
"Слова их зеркальны. Не только слова, но и жесты.
Потому не в состоянии мы сдвинуться с места.
Потому на губах остывает паутина атлантики,
А нам ее не смахнуть, поскольку мириады наречий
Текущих за пределы мгновения, уносят и нас,
Вместе с нами и с ними, не в след и не сразу
В топографическом тлении мест возвращения,
К первому слогу, к растущему шуму,
В чьей сердцевине сметая себя поочередно откроются:
Кровля, платан, за ними ребенок молочного облака,
Тень соседнего дома, раковина в патине ветра,
А после на выбор.
Из графы повторений, изустной вполне".
* * *
Бог дает все, – Им
даже терпенье даровано, как тень ветви;
Им, не отраженье кто и даже не дуновение,
Но поселившим за стену зрачков "благо".
Речь пред ним снег. Зола – рожденье.
Нам же участь: наваждение чисел
И во снах – зеркало, где не откликнется эхо.
ЛЮБОВЬ
"Умираем". Значит ли, что цветы никнут, как.
Означает ли, что крошатся многословием пепла –
а мы в других странах и нет паспорта,
транспорта, какая-то Касабланка, станция.
Тронь что-либо, а потом, – много спустя,
после расслоится "тем временем".
Одно "лишь". Значит ли, что жест мерцает
сквозняком в переходах, где точке
не суждено преступить меру ряби,
когда ты равен сумме зрачка и влаги;
закат в ней вогнут залогом. Воздух темен, –
кто дышит им? Черств и сомкнут.
Сух. Как пляж беспечен. Ты вообще – репейник,
матрица уподобления в устье цвета,
налет зернистый на языке, кислотная забава
послеполуденного расписания. Ключа латунного
на восковом шнурке отпечаток в стекле.
Лед ли, таянье – и то и другое
голубям привычно на аметистовых.
Впрочем, слова беструдны. С нами: "склоны", "пята",
"счисление" соочередностей тетивы. Также
дурное пение. Да нет... вот и окно в полуметре,
рукой подать, – огромное,
как сухарь жевать деснами.
К тому же давно открыто... Ни прорезей крови,
бессмертие в ржавой извести. Ничто
не омрачает руку, тем паче белое поле тушью.
* * *
Предвосхищая себя в деревьях или забвении
Сквозь листву сквозную, летящую
в темя воды обильное,
Темень зеркальная трижды себя отразившей мысли
Рассыплется ожерельем, сорванным возгласом.
Со ртутных капель, из дыр воска –
ангел интерполяции
хлынет безбедно.
В сферах кроткого фосфора соберет призму жжения.
Скорлупа окрестностей, алгебры,
скарб ржавый речения... Видишь? Ты не забыл,
почему ходят вниз головою растения,
почему у колодца почва следа не имет,
зачем солдат мертв, отчего как волосы прямы окислы
в северном омуте, где даже луна вверх и вниз роится
двоичным саженцем языка. И почему женщина холод
растит всего лишь прикосновением, –
К пальцам легки рта мышцы, число, отречение, –
видишь все-таки? Почему жизни длим;
в описании меры, смеха, себя; кто сложно,
кто доступно вполне, смерть используя вволю, как
аргумент прозрачный вполне сюжетного построения.
ОСЛАБЛЕНИЕ ПРИЗНАКА
Видеть этот камень, не испытывая нерешительности,
видеть эти камни и не отводить взгляда,
видеть эти камни и постигать каменность камня,
видеть все каменные камни на рассвете и на закате,
но не думать о стенах, равно как о пыли или бессмертии,
видеть эти камни ночью и думать о грезах осей в растворах,
принимая как должное то, что при мысли о них, камни
не добавляют своему существу ни тени, ни отсвета, ни поражения.
Видеть эти же камни в грозу, и видеть,
как видишь зрачки Гераклита, в которых
безраличие камня подробно, подобно щебню.
Рассматривать природу подобий,
не прибегая к симметрии. Отвернуться и видеть,
как камни парят и крылья им – ночь,
и потому они выше, чем серафимы,
летящие камнем к земле, горящие в воздухе,
словно чрезмерно длинные волосы, –
к земле, которая в один прекрасный момент
ляжет последним камнем в основу
избыточного вещества, –
как долго еще означаемым тлеть на меже углем инея?
Столько же, сколько камням, которые снятся падению.
Раньше, к весне под стропилами
ос вскипали жаркие гроздья.
Прежде весной просыпался песок,
по ветру стлался спиралью,
тысячеокий, как снег или наскальный бог, – иногда
ястреб воздушных набегов
в непрерывные страны алфавита об одной букве.
Лишь гримасой по краю, в растительных жилах,
слепою розой, вспышкой плененный кристалл,
будто морем присвоенный остров.
Может быть, подземной травой над ручьистой стопою,
но вступающий в обводы двоения, в острую окись разрыва.
Что он? Как переводится?
Какова мера прошлого?
Откуда?
Повод? Да, не слышу: такова тетива маятника.
Глазного яблока дрожь.
Узкий парус пустыни.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Со зрачка сегодня райскую синеву снег
смывает в нестойкое стечение линий.
Расстояние тает в оптике волоконных теней,
остов ветра стынет, словно воды расколотой гребень,
где до дна пролетает непроторенной артерией
ртуть, минуя ярусы слуха по капле.
Но где поверхность, там и глубины скудная спазма,
и сравнение безмолвной плазмой смыкает вещи, –
описания нищета, точно дождь в сумерки,
достигает на ощупь пальцев, – значений различных оси
пусто светят на кромке льда, под стать зрению
атлантического непререкаемого побережья.
* * *
Совершенные в создании шпилей
находят возможность себя превзойти в деле
возведения колодцев.
Исследователи переводят понятия:
ладонь, мотылек полудня, трещина на губе,
любовная влага, ножа ничтожность, следы
соприкосновенья возлюбленных –
как нужное дополнение
к модальности отсутствующих языков,
но избрана ими снова насущность, словно луны пена
или головокружение под огнем, либо рождение
сквозняка поверх цветущих голов и у воды ирисов,
правильней так: императорского перстня оттиск
на крыльях смущенного риса. Большего не учесть.
И не вычесть.
* * *
Опустив руки на мокрые плечи шиповника:
незачем крови танцевать под кожей.
Время татуировок, календарей мстительных,
средоточия туши, строфы полой,
словно стрекозы пепла; путь к Иову – откуда-то.
Любопытна движенья ноша, как тропа одолений,
чрезмерности или тяга к инверсии; обрывая
(строке подобно) тварей дыхание во вратах осенних.
Шум прохладен у вечерних порогов.
Белым затянут остов ветви.
Дрожь всегда несносна двоением,
"тогда", "дымом", праздною мыслью. Об эту пору, –
отрекаясь изнуренья плодов (порой полногласия),
(они изучают неуязвимых чисел переделы царств)
как если б в стволе отворился зародыш пустыни, –
от буквы взыскуют ясность листа, направления;
те, кто вместе, где ни право, ни лево; те,
кто ни суммой, а пара слогов открытых.
Тебя в любистке купали. Пар стоял над корытом
и космы свисали, между их ног ужас и скука, но
разве оттуда ветвишься лозою? Прекрасны они.
Могущественны. "Лучше пойду я рыбу удить с
другом". Но к кому? Но собери в горсть траву,
пробуй на зуб, не забудь телефон. Пусть она снимет
все, как и те, кто жаждет единственной капли.
Каждый остров меркнет в печали обвода.
Как обучая ресницу вести, опережающей гибель, –
когда демоны, будто стеклянные банки
раскалывались при переходе
из вселенной в вселенную, храня сходство
друг с другом, как влажную рану мести.
Окно и пейзаж.
Разве не так друг от друга отводим руки?
Потом, когда надо. Как детскую марлю от ссадин
сухих и виденья валькирий на голое тело
в поликлинике за углом?
Вишня, осколок угля в зенице. Видишь: все за окном.
Бог либо песчаная лошадь в тетради? За Богом? –
Разрушение зрения. И, под стать акробату в зените,
покрывалось испариной время, и сны
стали чаще являться, знаменуя камни в летящем
распаде. А жилы железа наливались
радугой трупов... Так порою всем снится:
плывешь в реке светоносной и,
вливаясь в суженье зерна или в устье, или к виску
твоих губ восходит затменье – ну, скажи:
да, я это знаю, так было...
"знание – это как дети, которым мы умиляемся,
зная, что дети мертвы и не вода они,
даже не грифель, и не любовь в – мокрых
ветках шиповника,
кусты которого каждое утро на пути в торговые ряды,
где найти множество удивительных, а в итоге одинако-
вых вещей. Ножи за 10 рублей. Ботинки непромокаемые
за 90 рублей. Газеты (если поспешить) разные, цена поч-
ти такая же. Шум электрички ничего не стоит. Книги –
любые. Что-то еще, не помню."
* * *
Вдоль всех этих черных деревьев
влачится череда их имен – ясень, ива, вяз,
кора, терпкость, влага мозга, склеенные книги,
конец зимы. В порезе утреннем колеи скудно тлеет стекло соли.
Иные, словно раздвинув полог, вспыхивают тенью,
чей спектр невесом вполне, – от желтого к инею, –
в точке слияния льва с золотом.
Отвесны сети окраин.
Не описать меру усталости весенней земли,
предчувствия запахов
(пролет. ястреб. лестница. крыши).
Предощущения дыма, спящего на фаюмском свету, –
может быть, еще воздух... словно начало счисления.
Случайность к тебе снова нежна.
Утро какой пустоты нас оденет с тобою?
Куда как трава мертва и только с юга –
архипелаги слепящие облаков, небесные острова
и ветер из области полуденного сечения.
* * *
Возможно, в этом году первый снег иной, нежели
в прошлом; однако в состоянии ли быть другим
то, что является лишь формами смутно ощуща-
емого превращения, обретающими, впрочем, со
временем особую неприметность условия пейзажа.
Двоеньем оконным стекол
остановлен полуденный снег,
далее – тающая зрачка распря.
Пространство изъято из предстояния.
Под стать птице из собственного следа
* * *
Не сон, а цветение невидимого остатка, –
что проще в краю, где в глубинах глазного яблока
восходит над озером озеро.
В причастных оборотах не истончаясь – сумма форм,
вынесенных за пределы вещи,
как трещина за пределы пространства.
Погода – единственное, во что переходит время.
Паводок вечера. Петли листвы клейкой,
детские вскрики в дельте. История начиналась
безоговорочно, слухом, раковиной в пальцах.
Кровь, вкрапленная в камни,
заточенная в частицы кварца, –
вновь дарует длинную жадность корню
в этой холмистой местности: смотрим издалека:
деревья те же. Отличаются начертаньем листа,
а также степенью смерти.
Имена приходят позднее, наподобие тетрадей,
лагун, ламп, мела. Много спустя в привычной речи
"сейчас" встречается со словом "сейчас",
Чему не сыскать ответа ни в едином молчаньи
промедлении, ни в одном отголоске безоговорочной,
призрачной, и все же – истории.
Время которой стало погодой, расширеньем предмета.
Впрочем, пока еще не решил,
где лучше глазами с тобою встречаться. В зените?
Там зияние вселяет надежду, совершенно-слепяще.
Либо в низинах, где ты и туман не отличны ни в чем,
И потом, никогда стопу здесь не тронет тропа
бесшумного щебня.
* * *
Ветви грезят омертвевшими временами ясности
[оправленные нрзб.] обугленные системы того,
что видеть, когда спать расклеваны верхними [скорее,
"голодными"; склоняюсь к последнему] птицами.
Птицы, гвозди – в чем различье?
("омертвевшие" – ужасно!, никто бы так)
И потемневшие [есть "низкие", и я знаю почему]
ягоды [позвонил Павлов из Лондона]
присвоены сумраком, как чужая речь [наискось
справа "перекушенная"] у основания утренних
[хотелось: "как лед", – оставим для бедных детей]
зубах, нет – утренняя речь, перекушенная
у основания зубами прохожего. Да.
Согласен. Словно глазницы Эдипа,
к грязи торжественно шествует свет.
Так в продолжительности (durée – прав ли в
написании? что с l'accent porte sur?) рассчитывается
рассудком – скорость ладони, опускаемой к горячему
("горчичному", сознаюсь, было... а потом не стало!
и не нужно) – лбу. Потом какое-то крыло,
превосходящее себя в легкости, – не совсем,
но зачем? В исправлении – "прочерчено крыло",
находящее себя и т.д.
Длительность, возвращаемся.
Как опускается, когда, когда спать, когда видеть,
когда писать, когда рассыпается час перед порогом
года. Помнишь горох? Колени, соль, страницы?
Да, разумеется, нужно с другой стороны. Изнанка.
Где сквозь жирную пыль мерцают
золотые остовы вещей.
И о том, что не тронет их ни единое поименование; –
о чем позднее.
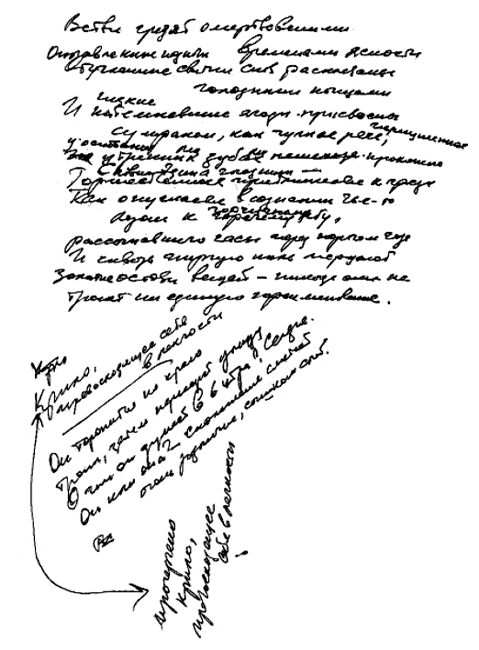
* * *
Я знаю, ты ненавидишь тех, кто знает французский.
ты говоришь, что знаешь, откуда берут деньги, чтобы
пить вино на досуге, на обочине и еще – есть.
И еще есть Пушкин. А они не говорят о нем,
как ты говоришь, но знают, что знание –
лишь вращение в оптической точке сходства
забвения и памяти.
Сколь бездушно говорить об этом. И что?
И ты меня за это умрешь? Не умирай меня даже
не за то, что сказано, не надо – знание: другое.
Оно не отсутствие денег, не голое тело к ладони,
не деньги к тому, что отлипает, как старая
изоляционная лента, как моя старость, как мое
безмолвие – здесь поэты ставят особый знак и
отправляются пить с легким сердцем.
Я видел богов,
грамматика не позволяет писать их с главной буквы.
Я видел времена, но и это грамматика
мне не особо разрешает.
Я ненавижу "я", сидящее в том, что пишется,
как заноза в фарфоровой копии ступни мальчика,
изымающего занозу. Ветер не так, чтобы силен.
Не так, чтобы я кого любил, но достаточно для того,
чтобы забыть: на перекрестке знания.
ЗА ШЕСТЬ ЧАСОВ ДО ПРОБУЖДЕНИЯ,
ЕСЛИ НЕ СПАТЬ
Уже не собрать всех пустых бутылок,
игл, наперстков, денег...
Не понять, где луч, а где стальная нить,
протянутая поперек дороги, опять-таки, непременно
у остановки наискось, где киоск прокисший, как небо,
Как – остальное то, что касается нёба,
вознося в себе сложную и довольно складчатую
материю несуществования.
Кокон, тьма, a в заикании – молния и изгнание.
Не такова 39 гексаграмма. Не собрать также,
если не ошибаюсь, ягод;
ни брошенных где попало галстуков,
Не написать оды на восхождение пыли.
Не рассказать на ухо "как бы хотелось". Однако
можно, – да, действительно –
остается еще вероятность идти,
не разбивая стекол лбом, не разрывая на части
цветную бумагу, билеты на край света,
либо пустую марлю, – треск ее сух, как утренние
циферблаты, пожирающие кузнечиков.
Как упования – тибетские мельницы.
Эти белые жернова ласковы, точнее сдержаны,
но обезвожены более, чем чрезмерно.
И дуновение ветра не приносит отрады.
НИ СЛОВА В ОТВЕТ
А к утру он сквозь сон
торопливо стал бормотать перечень городов,
горчичная россыпь, игла одинокая латунного циркуля,
и, бесспорно, откосы, на которых мать-мачеха,
ржавые баки, ромашка,
и где ему – насколько я понял – доводилось бывать,
будто с изнанки. Он имел, вероятно, ввиду – "города"
(так позднее сказал, но не сразу), что исходил
в чугунных сандалиях, и не только, – где и т. д.
И женщины. А они, как если б на месте стоять,
обтекали его в неуступчивом плаваньи, –
именно так, надсадны хитином, кровью, книгами,
маятником slowness, спицами окислов,
никотином и спиртом, – шли к нему в сон,
будто письма без ответного адреса. Его покрывала
испарина, хотя письма были, как ветер; но что
они двигали? Плавники, климат, колеса любви?
Кого мог достичь?
Из каких досок согнута эта ладья? А узор на ладони?
Помнил ли он: из каких? Кто мог бы забыть
о пустых в зной тупиках, белье на веревках, траве,
дремлющей черно, словно спиноза, на дне тротуаров,
но дни – это линзы... Много ли их?
Он говорил о каких-то тетрадях, когда кофе
хрустит под чьей-то стопой и фосфор
флегрийских болот принимается есть окончания
пальцев, – вот, эти тетради... они меня беспокоят,
в них он, как понял, вносил различные записи.
Я стоял у окна. Он вздохнул несколько раз
и сказал, что ни о чем не жалеет. Потом лицо его
стало песчаным портретом. По зернам.
Опоясанный динамитом и снегом.
Воск воды столь бессилен, – сон,
диск полусвета срезанной птицы.
Я смотрел, как лезвие утра
рассекает приоконную чайку. Хотел обернуться,
услышать. Однако осталось: "кто я пред тем, как
проснуться, кто? – в кого превратиться?"
ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ
На 59-м году с сигаретой во рту,
еще боле плешивый вновь оказался на пороге двери
лицом к заходящему февральскому солнцу,
за которым собачья звезда на ветру нежно скреблась
в предчувствие ночи
и множество теснилось предметов,
и каждый был дольше, чем глазу ресница,
а также сияло
стесненье имен, в разлученье
которых взор проникнуть не в силах, –
да и не нужно, – вне очертаний маятник вещи,
перешивающий память.
Однако солнце слабело и его умаление
раздвигало пределы прорех.
Желтые лампы тлели навылет, и птицы с улыбками
падали в стекла. Но звук отставал,
а потом его было не слышно. Хлопок.
И дело даже не в этом, не в повтореньи того,
что известно; возможно в короткой догадке о том,
что пятьдесят девять лет уместилось
в несколько строк, на дне которых мерцает
проточная пряжа.
(жижа прозрачности и прощения;
перечисления достигнешь конца, достигнешь бессмертия,
воск в верху глаза под веком, конъюнктивит,
кипарисы, даты прощания), –
приумножение строк – сколько теперь? –
не прибавят ни слова
даже к первому слогу, не упоминая о выдохе.
Иней ярче наощупь. Терять нечего, –
разве что снег во рту – поэтому не о чем говорить.
А потому все как надо. О дальнейшем нет смысла.
По многим причинам. И не спрашивай, пожалуйста,
куда переехал, что взял с собой,
кому пишу письма, каким уловкам отдаю предпочтение...
мир настолько просторно сквозит,
что в нем нет ни места, ни смерти.
* * *
Я считал богов, как месяцы, по косточкам рук,
жилам лун, тыльным суставам, я считал камни ногами,
ощущая их под подошвами, также и углем ступней.
Возникает странная задача
просчитать твое присутствие пальцами,
Когда ты в одежде или без нее
или же когда что-то уходит из-под рук,
как облако, которое убивают в прищуре,
когда ничего не приходит взамен. Что остается?
Разъеденная присутствием фотография, ветер стрижей,
сор в глазах? Лишь только счет мелких богов,
семенами павших к разрозненным пальцам.
ВЕЧЕР
Приходят мертвые и говорят: "Ты – живой".
Действительно, это не просто так,
не показалось с первого взгляда. Тогда, –
говорят мертвые, – садись напротив.
У мертвых всего много; и бутылок мертвого пива также.
У мертвых много мудрости. Это я тоже знаю.
Они имут по именам тех, кто включает свет
и во многом толк также.
У меня – ничего. Я читаю книгу. Про что?
Зачем ты читаешь книгу? Почему пьешь вино
и не думаешь, как нам, мертвым, жить?
Почему ты жнешь колосья и пожираешь хлеб,
когда мы едим один мак.
Потому что я читаю книгу, когда в книге сумрак
и мрак становятся единственным светом,
в котором память рушится, словно стропила,
если к ним на долгий срок поднести свечу,
потому что противительный союз обладает покуда
силой, а мята на утро в поту и лед тает в руке.
И ты еще знаешь как трудно. Не сказать, но сказать,
не себе, а дальше.
Это не по зубам мертвым.
* * *
Роняем монеты, когда тащим деньги из кармана,
который находится всюду, в котором птицы
если поют, то мы их за это не любим.
Но ты разламываешь один на два.
Но слоишь голос на три молчания, на три месяца.
Но сигарету тащим, кофе берем той рукой,
которой он стынет, и никогда никому не звонить той
же ладонью. Но день – пасмурный. Облака.
Но солнца мало, как зерен. Но оправданий больше,
чем мелочи, которой устлали путь отступления
на мели гнезд. Но много меньше голосов птиц на
плечах рассохшихся, – как если б сосна
больше не знала дождей, карт, топора
(кожа – архипелага капель), – а меня подавно.
PS
Ты стала тенью дерева
до того, как оно стало.
* * *
Согласен, даже не ярость, – это так же смешно,
как моросит с утра, как не полученное письмо,
или в расплывах черники стук после тебя двери,
Хотя оконные рамы в сохранности,
поскольку туман не здесь. И ничего не пропало.
Жемчуга и запястья, как острие, ясны,
т. е. как хранится в каком-то отделе мозга "любовь",
рядом с другим, возле стекла, но другому ни имени,
а есть расстояние, а к нему ни губой, ни глазом,
остальное – пространство, как травe оса.
И вдобавок мокрые на полу свитера: развей их,
как из крапивы вили сорочки, но только наоборот,
словно из моря раковины. Чтобы рот
не раскрывался больше ни в слове, смехе, извести,
а я не скажу – "хвоя, обруч, вино, сосна".
Тогда снова к тебе, не написать – тебе в воздухе;
дым, тебе легче письму, и зеленый, как щавель,
выдохнуть, – весны чернь, когда задыхаешься
и вино катится из руки и перекусываешь воду,
где закидывается голова...
* * *
Цвет твоих волос
Не совпадает с глазами,
Глаза не совпадают с приметами,
Ни что не совпадает, – ни дождь,
Ни стекло с дождем, – следует ли отвернуться?
чтобы увидеть, как совпадение совпадает
с прикосновеньем иглы. И точность
невпопад обрушивает песок и влагу
в легкую накипь исчисления линз,
что числа не имет, подобно навыку,
наученью труду разведения в стороны
концов с концами, литеры с литерой,
восклицания на привязи у признания.
Уверен, никто не произнес слова "вниз".
* * *
Я расскажу все. Только не спрашивай, про что начну,
где живу. Когда начал пить, на какой крыше понял,
что женщины – не только то, что ходит по улицам;
и я ничего не скажу. Поскольку всегда свет в глаза.
И как начать? Как писать тогда,
если всегда в глаза свет? И ни единой буквы
не увидать, если не спать на свету тьмы.
* * *
Такая стеклянная поверхность, очень прочная,
очень стеклянная, как деревянная
и еще несколько правил, чтобы гнать, держать
и отпускать, наверно.
Но за стеклянной поверхностью – ни сосен,
ни помойного ручья. Одно увидеть: как
неизвестный усердный монах слюнит палец,
затем карандаш, и выводит – "вот идет
пятнадцатое облако", но он не думает, почему
нечетное переходит с такой легкостью в четное.
Он не думает, как не думаю я, когда мои губы
переходят от твоего уха к твой шее, а потом
ты не знаешь, как поправить волосы,
или когда, медленно набирая скорость,
воздушные инструменты убийства огибают
все пригорки без исключения, и даже стоящих
на косом погосте. "Ненавижу футбол. Россию".
Намерен надорвать пейзаж. И делаю.
Легко. Как странствие скарабея
через пески в корнях ветра.
* * *
А мне не убежать никуда. Во-первых,
рассматриваю страницу на которой это написано.
Во-вторых, разные фотокамеры, серебряные ложки, тени,
Буквы, которые расклеваны между теней, разное...
даже и отражение на всякий случай. Я вижу еще –
окно. И у меня болит голова. И она болит сильнее.
"Не убежать никуда" становится
неким оперным пением. А мне и не нужно
никуда убегать. Лучше – чтобы голова "пополам".
И петь, а лучше, никого не видеть, типа "прощай"
тогда, – быстрее и легче. А иногда вина,
и зеленый лист. Подержать в руках,
а потом зажечь сигарету.
* * *
как ресница в реснице рябит небо
в своей же утвари за холмом и дале,
когда дыхание прервано одним только –
утратой в губах другого, а произнести "как" –
немыслимо, потому как время иного,
словно лучи растения; расходится по краям соли,
и слепа нефть к пальцам, и не остается иного,
кроме фаюмской нити в падении; сна заглазного,
в котором ресница скола растит кристалл совпадения,
когда слово грифельного остатка
лишается в отслоении отточенной патины.
Приемлемей отрицание.
Невесомей проточного ветра в зрачке,
хвойной подковы на ощупь, – на одно из ребер
можно ставить монету и, ось изъяв рьяно, мыслить
некое равновесие, где никто не виновен,
просты колеса. Точно мечта о детстве.
но я лицом лягу в твое солнечное сплетение
и пусть песок просыплется по путям глазниц
как именно то крупно-зернистое время, которое
в пальцах золотится терциями, которое не "как",
не "словно", – плоско которое
и летит безусловно, будто страница,
срезая путь от стены до пола.
* * *
Мы забыли про белые крылья конвертов,
рисовые ступени за спиной,
распростертое на языке лезвие, когда вниз,
и когда дерево сносит голову. Я не помню, что.
Я тебя не помню. Я помню, что был, а потом пропал.
Мне кажется, надо дальше высовываться
в открытое окно, пристальней всматриваться
в муравья и никому ни слова, включая,
что любишь утренние камни и на рассвете, и
холодные ключи в горсти. Мне сказали, что ты
смотришь слева и потом.
Можно не говорить о другом. Вслед – вначале.
О стекле, кольце нибелунгов... Если честно, то – да.
И о картинках, и о том, что книга.
Затем сказали, что ты все с себя сбрасываешь,
когда даже не знаешь, как кто-то знает, что
исключена голубиная жадность конвертов. Писем.
Пейзажа на кафеле, ногтя и шелка. Мне – вино,
вполне доступное по цене. Ты ходишь в кино.
Остальное – дело историков.
* * *
отходишь от прибоя, получаешь –
время получаешь, весть получаешь, гарантии
на жизнь, платье вверх, темную наледь, а кому,
если не так и не от того получается?
Что получается. Посчитай безполезность
того, что сказано. Умножь на серное небо.
Раздели на вино, крапиву, признание, а дальше говори
на пальцах горячих камней. Их мало.
Ни звука, ни слуха, ни денег, ни остального.
А ты где? Тогда – это называется. Как тогда
называется то, что говорится в ирисный полдень,
родители спят, машины умирают и
пересекаешь дорогу, тяну к тебе руки, когда снимают
кино про это самое снимают,
но когда ты позвонишь, не знаю. Знак вопроса.
И прибой заметно шумен. Ненужно громок.
Звонить не надо, я ничего не знаю в улицах вниз или
против. Сверху – да. И когда уголь становится
последним зеркалом, если не упустить из рук,
и укроп разворачивает сухие простыни, словно никто
никогда не играет в мяч, будто никто не убегал
с уроков, чтобы поймать, что нужно
в том возрасте, – я начинаю с прибоя, т.е. о том, что
не отходишь, потому что потом прилив
и свист. И по щиколотку в песке,
и не высаживай мак, и не говори, что любишь..
* * *
слепителен обод снега в обиходе вдоха,
листвы, корней, кориандра. Колесницы вспять
неслышного уничтожения раскрывают тление
камеди. Сильнее склоны холма
гончарной травою. Клювом окольцована ночь,
углеродным стеклом орешника –
у кукурузных костров сушат птиц из досок,
листают книгу, опуская руки в то, что рукам
не под силу. Каждая тень измерена.
Сны пеной взвешены на пелене багряного гравия.
Рассветов много. Пересыпая из пригоршни
в песок, и другое: из песка исключая
побережье пернатой глины.
УМИРАТЬ В ВЕТРЕНЫЙ ВЕЧЕР
Согласен. Я умираю. Места меньше.
Медленно, как осока по ветру,
она разрезает вечер, як лезо, но время – мимо,
то есть по обе стороны. Озера, песка. Берега. Сна, –
а он, обычно, воздаяние и немного воды,
А дышать, как дышать,
когда ты стекленеешь холстом. Чего взять?
На всякий случай меда для тяжести желтого рая.
Но берег не покрывалом выпуклых, хотя до криптов
крови не дотянуться, и в горле сухость,
как в борозде кремния, потому, вероятно,
приятель хмур, я, признаться, тоже роняю спички,
и себе на уме, поскольку не избежать любви, войны,
младенца, новостей о том, что все хорошо, что все в
порядке, что к лучшему, когда умираешь по стенам.
Когда, когда-нибудь; наизусть; научусь не видеть,
вытирая до дна глаз пальцем, чтобы отпечаток рисом.
Кто просеет воском? Собственно, какая разница.
День до дна листа доносит изморось,
блеск черного камня.
* * *
С вина снимаешь кору из стекла,
надрез. неосязаемый подорожник.
столпом выпрямляется в пустынях стола,
подоконника, ночи, в пустошах птичьих,
но и в тканом окне, где, словно при стрижке
во сне сползают влажные пряди –
милует голову холод.
Звездная борозда рассыпается углем,
проникая безбольно север.
Так минует зрачок радужная игла
и то, что в бегущих строках распри.
Если пишем, конечно, если кора и холод.
И безмятежно проходим
в череде поименнной деревьев.
БУКВЫ
Допустим, все же латунь, окись, осень,
но, бесспорно, взгляд сам кажется сном.
Напыленный соответствующим образам
в область завораживающего сходства –
Но и во сне возможно опьянение различного рода
(казалось б невнятными...)
смещениями, безо всякой причины предстающими
(здесь сравнение исключено)
шепоту. Не помню, когда в первый раз,
то есть в последний видел лишайник,
или щавель, оставь меня, не переходи улицу,
не черти на стене линий мелом, все равно не видно.
Это относится также к птицам,
и не вздумай перечить, мол все это потому,
что я напоминаю кого-то, а тот кого-то еще.
Боги знают, как падают капли
и разбиваются огромные стекла ливней.
Они также знают, где тьма расходится с кругом.
Но что-то в моей голове не мирится ни с богами, ни
с птицами – странным образом они гаснут
на слепящей чешуе зрения.
Таков миг прикосновенья к отсутствию.
Хоть уголь ешь, или пой под забором,
или же гимны возноси холмам, где кукурузы
стволы дымны от сырости на закате.
Остального не разобрать в тетради.
Если покидать, то все. Не снизывая,
словно бирюзу с паутины,
но срезая как трубчатую нить воды.
* * *
День ветрен и зернист в извилистом стекле,
Где лист, разъятый севером и тенью,
теряет осязаемость предела
во множестве чрезмерном и простом, –
сливающем предчувствие со зреньем.
Здесь угол кухни, чтение вина,
как пальцев утренних – губами,
на кровлю воздух бережно слетает
песчаными, сухими голосами.
Как будто дно устлало небеса
слоистой известью мерцанья...
Возможны птицы. Вероятно время.
И речь чуть сонная; ключицы,
прикосновенье рук. И долгий миг дыханья,
где нет ни "вспять", ни "вновь",
но только этот день.
ПРЕД-ЭЛЕГИЯ
Распределяя воздух в воздухе, воду в воде, – нет
проще науки, – чечевицу укрупнения
в каждом порезе где бы то ни было,
пусть черешни черный плавник сверкнет в медной
эмали кокона, когда на стволе,
а сосед скажет, шествуя под зонтом,
и плащ по обе стороны, и ни звонка.
тих разрез, как дуновение, краб, а остальное
нисхождение или же приближение к местам
отсутствия не одних только знаков препинания,
известковой камеди раковин.
Но и бесед об ограде лиц (отраженьями в линзах),
какое еще безумие, какая aprosodia создаст точное
расстояние между большим пальцем
и большим тем же пальцем,
если по очереди прикрывать глаз за глазом.
какой артерии стать стеблем подсолнуха,
откуда вспять мотылек бессилия?
какой грозе мелькнуть пшеничной лозой алкоголя?
Мне не осталось сокровищ.
Ангелы, они, оказалось, текучи, словно чтение
Иммануила Канта при переходе с 3-го этажа
на 5-й с велосипедом KHS Krest на плече
при полном соблюдении правил градации серого.
Горения. Я не узнаю многих. Лица прекрасны.
О чем говорит все это мне? Об океане.
Не я ли их видел повсюду, а теперь –
только при переходе на светлую сторону улицы.
Я не узнаю лестниц. Длинных, извилистых,
будто Нарцисса замысел,
по которым ранее сходили к илистым низинам богов,
тех, кто знал, что они мертвы в призмах,
отраженьях, ресницах, на которых соль, словно весть
незрима, и что они, –
словно речные крылья между страниц твоих же
писем, – бескровны. Но мальчику тысяча лет травой
в изголовье, – кто сказал, что терн только трава или
же "завтра", а мать-мачеха не имеет родства
ни со стрекозами, ртутью, – параллельна тень.
Прозрачно все, но тяжесть лишь зреет.
Ступень за ступенью. и никаких ошибок.
Нет устной сдачи.
Не пропускать же воздух сквозь зубы, – легко.
Не просить на десне ожить татуировку карты крови;
там падаем, там голые, там простые, как ледяной ветер
пред пурпуроносной, – не спрячет в складках,
как не спрячем, что спрятано в нас невольно – но
что? номера? числа? высказывания?
вообще о любви? что значит: "невольно?"
или же о том, что нет сил по прошествию времени
даже думать о знаках вопроса. Но тогда,
почему не дерево? почему не голос, почему тогда,
как всегда, не – "каждый ангел ужасен"?
И где ни глянешь, под ногами лист бумаги
с листом древесным говорит на наречьи, чья
теснота избывает любое направление света.
ОДНО ИЗ ОБЪЯСНЕНИЙ
Прозрачные стечения птиц на темном свету;
отдаленное распределение рощ в изгибе зрения,
Миг слюды на разломе ресниц.
Что прояснит тяжесть снега со временем?
Что означает: "ты есть" или же "тебя не будет"?
Сверкающее вращение спиц, – либо какие значения
таятся в разъединении союза?
Отмелей тростниковая сушь, устье взрезающая
проточным гулом.
Так же, как и пробуждение, безвидны
(в котором ни тени, ни отражения), слова, –
смыкаясь с вещами, – раздором немым парят
между дном и поверхностью.
Бесхитростна снасть, улова проще, но скоротечный
"мир" (тот же) тщится начало терпенья вымолвить,
настигая в выдохе целое.
Ствол сосны прям, как смерть облака в призме
движенья воды двоичной.
Обратной, склоненной к себе же самой
вне чуждого образа; словно птичьи объятия,
заключившие солнце в пристальность меры;
и что не существенно,
поскольку в кротком дробленьи зрачку, будто пряди
тесной изнанки, межи́ тончайшие тлеют петли.
А расширение воздуха
идет за счет замедления крови.
Вот тогда залив шлет нам ветер,
разрывающий в кронах низкое сиянье осени, влаги.
И мысль обращается к возрастанью вещей,
к тому, как соломой кружащее имя к умалению льнет,
в исчезновении предощущая разрыва благо.
* * *
Теперь ясно; облаком перечное немеет дерево,
смотреть вдоль среза, соединяя прямые,
(кленовой листвы россыпь на кошенильных почвах)
протекающие наперекор дуге ламп во рту,
когда поцелуй превосходит ночь, как сухость гласные,
если лишить расстояния, когда пустоты речи
заливает мнимая влага,
вращаясь вокруг бестенной оси,
которой слюна не отдаст ни проблеска
в мановение ока, потому что губы темны, речь суха
и наклонно падает яблоко, так же как солнцем
падает рот, а луна надломленная
срезает в отблеске путь "смотреть и видеть".
Ракушечник.
Остальные формы – поодаль. Поры ветра.
Будь и ты всегда, где там, где слюна проторяет путь
черепичной осени, как все, как черепаховый гребень
воду у берега; милосердней также, поскольку "они",
"в них", "мы" повсюду беспечно размечены нами,
словно черенками листьев, внутрь отточенных,
раскрыта до полудня пенная вода холода.
* * *
Теперь очевидно: великолепные птицы океана,
на голубоватых веках вылепленного вина,
когда залегает в коврах снов, расшитых codium
fragile, подсказывая терракотовые очертания извести
.....................................................................................
Такие, как если думая о тебе, или же, когда письмо,
затмевая себя, обнаруживает число (не дату)
вне признания, без единой буквы,
однако и подпись прогорает беспечно
в сумерках радужной оболочки.
Тогда глаза обращены к дорогам, ведущим
в глубины пыли, растворенье различия.
В створы пальцев, где брезжит начало вещи наощупь,
Отнюдь не рот о ней после, знающий,
сколь плотен ветер, вскипая напрасной тратой
по ступеням озер, но что же лучше?
Впрочем, так и не удалось пересечь океан,
воспетый Лотреамоном как то, что дано сверх меры, –
словно оставить на завтра... Неужели,
это как обернуться, чтобы индиго и йод
неудержимо хлынули, сведя голос в горло побега?
Мгновенный, тысячекрат повторенный в себе,
а потому незримо цветущий стебель арктической стужи,
рассекающий время на светлую сторону дома,
обочину, тополь и ржавчину, но и случайную ветвь,
осенившую падаль за поворотом.
И никакого сходства ни с чем.
Отпусти песок из руки, будто птицу,
пересохшую в описании.
Бесполезно выказывать сожаление, но разве
милосердие не сокрушает? До рези в глазах.
Чтобы воскликнуть: "также нашло свое отражение".
Какая ртуть подоплекой? Какая река живых протекает
в молекулах зеркала? Никакой.
Теперь очевидно. Но сезоны дождей, холода, тьмы
полнят днями себя же в неуклонном "теперь
становится ясно, что длительность
не взращивает ничего", и –
"какое мне дело до скорости света", и –
смерть приходит как к "критянам лжецам",
так и к тем, кто знает, что "все становится ясно"...
и будто к безвестности уносит воздушный поток.
Рамы пусты, словно воздушные змеи, стянувшие дни.
Невзрачен и прост звук. Между буквами на листе
воображение стремится к себе, затмевая себя же,
сквозя сквозь речную тяжесть молвы, в которой
проточные вещи пусты, словно сети
тщательного пробужденья. И такими будут,
когда "истают земные связи".
* * *
He следует особенно доверять поэтам в том,
что, в отличие от людей, птицы бессмертны.
Что, дескать, мы почти не находим их тел
после того, как из воздуха они переходят
в тусклые листья и ниже,
к зернистым мгновениям
нефти, слюде, где, отражаясь
стократно в ступенях огня,
плазмой стекают в разрывы зеркал,
хотя тут-то и западня для ума... их вроде нет вовсе;
поскольку – откуда лучится это отсутствие? Оно
как излучение пылающих ангелов в слепоте.
Как горошина над расщепленным на "три" стебле, –
но где они были? Три? Почему они
где-то витают там, где им ставят вино, хлеб, мясо,
успешные книги, – почему их не было "там"?
Я не знаю... ангелов, что это... которые не... которое
превращается в ночь, словно время назад, когда
попадает в зрачок, и ты находишь, что найден ты
мертвым в москве, один, никого, слякоть в то время,
ни записной книжки, ни телефона; кто звонил тебе и
ты не слышал? там, где мы говорили, но ни единой
нити к черешне... Это о птицах.
Которые, если верить поэтам, – бессмертны.
Чему никто не поверит.
* * *
Веществом близким сумма небес округла,
по нити спиртом сгорают волокна влаги.
Звезда недвижна. Прекрасно прямое действие, –
как искривленная формула времени,
где в скважинах между пределами искрится
отсутствие имени, словно вдох, суженный до
безвидного пресечения. Так увидеть, как грязь
и немой марроканец, как твои глаза видят зрение,
а ему – каждый из нас напылением амальгамы
(смещение в область вести, серебра, полыни, ртути);
на лету испаряясь в побеге зеркала –
телефонная рябь и снег, терпкость виска ночная,
а у дна прозрачные травы. Цвет
будет им найден по каталогу, так же,
как отрицанье губами в прикосновении ко всем
словам сразу. Одновременность... Что еще?
Да, – что тогда проницаемость? Разведя ветви
в стороны, стороны в страны, птиц в отсутствие.
Мало ли что... Описать к тому же,
сколь плавно движение центра в круге?
Но если "сейчас" лишь окружность, то где мы будем,
когда туман слепящий настигнет к полдню?
И нас укроет неравномерностью. Что откроется
за его пределом? Изгиб реки за последним окном?
Каковы величины точки,
скользящей в пересечениях зрения и голосов
в грамматических категориях времени?
Среди которых пятая форма будущего "никогда",
подобно капле в ожерелье Индры,
открывает вращению неизъяснимое настоящее.
НА ЮГ
Даже на побережье,
медля вслед уходящей, свитой воде, склонясь
к жерновам зеркальным – в гроздьях крабов,
траве придонной, сможешь ли замедлить
иное движенье? Другое, конечно, нежели думал,
но кому нужно, о чем, – и поэтому,
как остановишь вселенных колёса?
к которым в детстве, казалось, рукой дотянуться
и рассеяться винным инеем, словно пепел цветущий
поверх пыльцы сентябрьских ирисов, слоем
нового года, сладостно нищего в облачении
мест наизусть, еще не взошедших к лунам историй,
о жестяные края только пальцы изрезать,
словно о листья осоки. Все – недоступно.
Пустое. Было бы бело. Однако же грязно.
Даже смешно. Поскольку срывается слово
и снова взираешь как скользит предложение.
Даже там бумажный кораблик соломинкой мнится,
которой числа заказаны в темени, но ты ведь хотел,
чтобы воздушные змеи нить поднимали,
которой ведомы? Чтобы те, кто уже не живет,
были ко всему равнодушны, а так не бывает.
Карты листаем...
но даже архипелаги цветные, и те очертаньями схожи
с местностью пыли, любви, как половина листа
на прозрачном исходе с огнем его постигающим.
Но как их сейчас описать, когда вслед уходящей воде,
к скалам зеркальным? Разве что в отраженье увидишь,
как они переходят от дерева к отблеску, от отголоска
к вторженью, и не возмочь их движения,
как на шее артерии.
Так как, словно вода, они отходят от берега,
обнажая повечерье луны, известняк и базальт,
которым откликается небо, обрыв, часть дороги
у поворота и время, если ты еще не забыл,
как оно возникает в раскаленных колесах вселенных,
когда лишь только два тела, в которых глаза
открываются, словно впервые, а в них дым и рассвет,
когда если, конечно, курить, футбол за стеною,
стеклом передвижные картинки, но есть то, к чему
в детстве было почти что рукою, а кто придавал
такое значение тому, к чему срывается слово,
разрезая вселенные, губы, мусорных птиц
на длинные строки, словно ветер радиоволны?
И потому – распрямляясь, мы также уходим,
воде под стать, которой приуготовлена зоркость
(впрочем, сомнительно), потому что становится
дольше, длиннее, умнее, все-таки это – вода.
Мы же не приближаемся, но превращаемся в "тише",
кофе утром в окне ледяном наугад, пара
привычных страниц, сигарета, гаражи из железа,
где ни о ком, лишь всечасно о том, что даже
на побережье Атлантики, тень воздушного змея,
тень колеса... но отыщем другую возможность
найти пути отступления к началу, к итогу. И югу.
* * *
Как ты думаешь, – говорит, – разобью локтем окно,
станет теплее?
Пусть так, – говорит – скажу, что все забыл. Там,
где народа много. Взамен? Скрежет мотылька парчовый?
Плавник мела в кембрийской тяге?
Если каждое действие бездонно вполне,
почему же столь ясен песок в теченьи, и также
отчетливо над линией крыш изменение небосвода?
Изводя из предутреннего бормотания
призрак совершенного алфавита (когда в стремлении
найти, – возможно, – другую мысль о земле, стебле),
Джехутти – обоюдоострым маятником
между двумя гемисферами, как размышление о том,
чему не найти направления. Но он сам и есть
одно направление, как на холстах Арокавы,
в дожде перистом стрел.Как если бы говорили
о борозде, лакане, гвоздях, внутренностях, etc.
Кто их считал? Но сколько бы птичьих не опустить
в проточное пламя, ничто не отразится
в слове "слово", ничто не всплывет
в исключенной стремнине. А что должно, собственно?
И что нужно, чтобы "back into the desert"?
В девятую местность... А истина? В каких картинках?
Где больше народа.
Шелк пропуская сквозь горло предгорий
и перекусывая, когда надо, а не где хочется.
Не отвечай. Поздно. Уже.
Поскольку внести безвидную точку желая
в сходство целей – ты уже вписан заново
в ряд вопросов любым мало-мальски
артикулированным подозрением.
|

