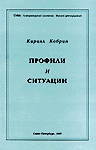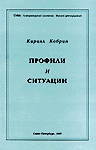Когда говорят "русская культура", обычно имеют в виду известно что (достоевский, ярославна, храмы, пушкин, еще раз храмы, чайковский, еще раз пушкин, кабак, еще раз храмы, толстой, осень левитана, еще раз пушкин, есенин, еще раз храмы, кресты, "кресты", еще раз кресты, еще раз "кресты" и т.д.). Когда говорят (и говорят же!) "русская цивилизация", то имеют в виду все вышеперечисленное, но ограниченное в пространстве и охраняемое представителями трех сословий: Ильей из крестьян, Добрыней из служилых и Алешей из поповичей. Когда говорят "русская история", то что хотят сказать? "Жуткие были времена, но раньше было лучше". Такой вот консервативный прогрессизм.
А я, когда говорят эти словосочетания (сам не говорю), вижу только одно. Берется бесформенная, студенистая заготовка. Берется такими хищными клещами, похожими на головы имперского орла, ежели повернуть их клюв к клюву. И по этой массе начинают колотить молотом. Получается некая вещь; крест тот же самый, или звезда, или еще что. Вещь остужают в холодной воде и дают ей спокойно вылежаться. И тут-то, в духе кошмаров Артура Гордона Пима, форма вещи начинает саморазрушаться. Стремительно, словно мириады стальных муравьев отгрызают по кусочку, неровность покрывает края и углы, ущерб увеличивается, из глубины вещи всплывают и лопаются пузырьки, поверхность подергивается сеткой морщин. Пара спокойных мгновений – и перед вами снова кусок бесформенной массы. Пора приниматься за клещи и молот. Распад формы – не работа зловредных муравьев, червей и прочих посторонних жучков. Нет. Если присмотреться, это мельчайшие частицы, корпускулы той же самой массы не могут усидеть на своих закрепленных молотом местах; те, кто оказался снаружи, пробиваются к центру, бросают свои позиции, окопы пустыми, оставляя лишь названия. Имена. Нагие имена.
Проговорюсь: "русская культура". Говорю в первый и последний раз (т.к. не понимаю точно – о чем). Русская культура. Русская культура – от петровской проковки до большевицкой – представляла собой зрелище постепенного и нарастающего натиска маргинальных корпускул на центровые. В XVIII в. ситуация явно в пользу последних; сравните: Барков (?) и Державин (!); сами фамилии сигнализируют о преобладании державного пиита над барачно-барочным похабником. Вторая половина XIX в. уже перелом: кто таков мизантропичный (есть от чего) князь Вяземский против эпилепсичного Федора Михайловича? Под большевицким молотом потенциальные центровые Бунин и Набоков искрами разлетаются по окрестным кузням. Выкована новая форма, столь же недолговечная.
Чувствую, въедливый читатель возьмет меня сейчас за шкирку и, как котенка, начнет тыкать носом в лужу, известную как "Три этапа русского освободительного движения". Уже чую, батенька... Только вот речь у меня о движении не освободительном, а броуновском, не классовом, а корпускулярном. Не о массах или классах, в коих Марксы и Веберы Максы делать пассы асы. О корпускулах. О тростнике мыслящем, подорожнике. Иван-да-Марье.
Речь о двухвековом натиске людей с сознанием маргинала, чужака, отщепенца, подорожника, если хотите. И дело, конечно, не в смене одного списка Фрейдовых комплексов другим1, а в поиске тех роковых подорожников, которые превратились вдруг в перекати-поле и покатились, и осыпалась насыпь клейнмихелевской железной дороги, и разъехались рельсы, и упал поезд, в котором везли что-то очень важное, но не довезли.
Одной из важнейших символических фигур постпетровской России, подорожником, перекати-поле без подорожной и (в отличие от своего омонима) без казенной надобности, зловредной для державной формы бунташной корпускулой стал Владимир Сергеевич Печерин (1807–1885).
Считается, что самым интересным в Печерине является его биография. Действительно, при знакомстве с хитроумным маршрутом жизненного пути Владимира Сергеевича позеленели бы от зависти Калиостро с баронессой Будберг; сам же Печерин считал, что так себе, ничего особенного: "... дескать, в старые годы жил-был на Руси какой-то чудак Владимир Сергеев сын Печерин: он очертя голову убежал из России, странствовал по Европе и, наконец, оселся на одном из британских островов, где и умер в маститой старости". Отдам всего Тургенева (Ивана Сергеевича, конечно) за "оселся на одном из британских островов" и, особенно, за "маститую старость"!
Вот краткое изложение этой престранной биографии.
Владимир Сергеевич Печерин родился в 1807 г. в семье пехотного поручика. Воспоследовала бродячая жизнь офицерского мальчика, повидавшего за 15 лет худшие из юго-западных окраин Российской империи. Гарнизончики, солдафончики, учитель-немец с идеями, книги, книги, книги. Недолгое пребывание в Киевской гимназии в 1822 г. Юношеская влюбленность, разыгранная по нотам "Новой Элоизы". Наконец, в незабвенном 1825 г., в столицу! в Петербург! где его ожидала мельчайшая чиновная службишка. Двадцати двух лет Печерин поступает в Петербургский университет, корпит над классическими языками под присмотром академика Грефе. Он талантливо разыгрывает жизнь "юноши, тянущегося к изящному", кажется, даже живет в одном доме с Фаддеем Венедиктовичем Булгариным; а однажды Владимир Сергеевич видел на улице самого Федора Глинку. Успешно окончив университет, Печерин был к нему же и прикомандирован – библиотекарем, старшим учителем в первой гимназии и, по его собственному выражению, "ужасным любимцем товарища министра просвещения С.С.Уварова"2. Несомненный филологический талант, переводы, напечатанные в столь нежно ценимых Пушкиным "Сыне Отечества" и "Невском альманахе", наконец, расположение начальства, – все это сделало его кандидатуру наилучшей для отправки в 1833 г. в Берлинский университет для пополнения знаний, т.е. в своего рода аспирантуру. Уваров сотоварищи поступил опрометчиво: в 1835 г. Печерин вернулся из-за границы "мрачный" (по выражению А.В.Никитенко) и, хотя тут же получил экстраординарное профессорство в Московском университете, поступил, как задумал: подкопил денег, изобрел предлог и навсегда покинул Россию (в 1836 г.). Любопытно, что в Берлине он сочинил следующие замечательные строки:
Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья! |
Владимир Сергеевич вообще много стихов написал, например, поэму "Торжество Смерти", которую спустя тридцать лет опубликовал в своем самиздате Герцен.
Итак, в 1836 г. Печерин вновь на Западе, в ушах его звенит "Go West!", в карманах не звенит почти ничего. В карманах – брошюрки христианнейшего социалиста Ламенне. Печерин (словно создавая стиль жизни для позднейших политэмигрантов) месяцами просиживает в кофейнях Лугано и Цюриха, проповедует самый бешеный республиканизм и, согласно новому контексту (и из-за отсутствия денег на цирюльника), отпускает бороду. Что бросил он в России? Профессорство, зажигательные лекции, горящие глаза студентов, статьи, статейки, статеечки в "Современнике" (или в "Москвитянине"? Какая разница!), салонный треп с неблагонадежно бородатым Хомяковым, патриотизм в 53-м и либерализм в 56-м годах, похоронную процессию сквозь всю Москву, речи на могиле, многословные некрологи, два абзаца в Брокгаузе. Все. Точка. Что же он обрел?
Бедность и приятелей-коммунистов в Льеже. Случайные заработки и ощущение безграничной свободы; ведь свобода – это когда можно запросто завалиться с книгой на койку. И промечтать целый день. Впрочем, в 1840 г., к огромному изумлению местной публики, Печерин принимает католичество, а год спустя постригается в монахи редемптористского (а не иезуитского, как писал неразборчивый Герцен)3 ордена. И здесь он прекрасно уживается. Начав в 33 года новую жизнь, Печерин уверенно делает (не специально, а так, мимоходом) церковную карьеру: в 1845–48 гг. мы видим его миссионером в милом английском Фальмуте, в 1848–54 гг. он уже в Лондоне, где пользуется (особенно среди католических дам) невероятным успехом, а с 1854 по 1861-й проповедует, с неменьшим успехом, уже среди простых ирландцев в Ламерике. Владимира Сергеевича прочат в кардиналы, как раньше прочили в русские профессоры. Но в 1861 г. он внезапно переходит в самый молчащий католический орден – траппистов, а спустя несколько безмолвных месяцев навсегда уходит из монахов. Карьера вновь сломана, сломана самим Печериным; по его версии – из-за дурных впечатлений от его поездки в Рим в 1855 г. С 1862 г. до самой смерти отец В.Печерин служит капелланом в Дублинской больнице Mater Misericordiae. Умер он 17 апреля 1885 г. и похоронен в Дублине. На могиле его можно прочитать следующую надпись: "Erected by THE SISTERS OF MERCY to the Memory of the Rev. VLADIMIR PETCHERINE 23 Years Chaplain to the MATER MISERICORDIAE HOSPITAL Died 17th April 1885 Aged 79 Years".
По легенде, в гроб его положили хирургические инструменты. Одно непонятно – зачем капеллану скальпели и зажимы?
Но вернемся немного назад. В 1865 г., по просьбе своего племянника С.Ф.Пояркова и старинного друга Ф.В.Чижова, Печерин начал писать воспоминания и посылать их в Россию. Он очень хотел видеть их напечатанными. Но судьба (на пару с русской цензурой) распорядилась иначе. Кое-что было опубликовано в аксаковском "Дне" и несколько отрывков в "Русском Архиве". В 1875 г., отчаявшись что-либо еще напечатать, Печерин перестал сочинять "Записки", а в 1877 г. (после смерти Чижова) оборвал корреспонденцию с Россией.
Только в 1915 г. охочий до московских споров 30-х годов М.О.Гершензон частично опубликовал печеринскую автобиографию в "Русских пропилеях" под шпионско-томасманновским заглавием "Отрывки из автобиографии доктора Фуссгенгера". Он же подготовил более полное издание, вышедшее после его смерти в 1932 г. под, теперь уже вдвойне символичным, названием "Замогильные записки". В издании Московского университета (1989) название приросло латинской фразой – "Замогильные записки (Apologia pro vita mea)".
Герцен посвятил Печерину полную фальшивых сетований главу в "Былом и думах". Гершензон (в "Жизни Печерина") глубокомысленно заметил, что его герой "хотя и ничего не сделал, зато много и глубоко жил". А.А.Сабуров написал в 1940 г. о нем кандидатскую диссертацию и статью, а Э.А.Гиллер – целый роман, оставшийся неопубликованным. Л.Люкс в 1992 г. разбирает Владимира Сергеевича в духе модной в том году "русской ностальгии по Западу", а В.И.Мильдон в духе троппо-попоровского сказочного структурализма именует Печерина "трикстером". Как-то успокоительно, в интонации душеспасительных "бесед о русской культуре". Почему не "трик-трак-стером"?
Но что же интригует нас в этом человеке и его писаниях? Все: и писания и поступки. Точнее так: Печерин-писатель, Печерин-жизнестроитель, мотивы поступков Печерина.
Начнем. Печерин – писатель... какой? хороший! Удивительны его риторические пассажи, не столько мощные, сколько сентиментальные4. Да, его сентиментальная интонация – живая; слова порой изумительно точные и резкие, никаких гоголизмов (что в определенной части русской словесности есть чудо); Печерин не боится быть сентиментальным, как не боится Саша Соколов в "Школе для дураков", как не боится в своих сочинениях Игорь Померанцев. Сентиментальность – для "малых голландцев" русской прозы. "Большие голландцы" боятся быть сентиментальными оттого, что боятся прослыть смешными. И оттого смешны. Именно над ними, "большими", изящно посмеялся Мандельштам: "Однажды бородатые литераторы, в широких, как пневматические колокола, панталонах, поднялись на скворешню к фотографу и снялись на отличном дагерротипе... Все лица передавали один тревожно-глубокомысленный вопрос: почем теперь фунт слоновьего мяса?" Возвращаясь к Печерину: его "Замогильные записки" – неверный оттиск с того направления русской прозы, которое не состоялось как "направление"; и не могло состояться в силу своей штучности. Искуснейший повар не сварит борща на батальон.
Если начать размышлять о стилистике печеринского жизнестроительства, то тут же возникнет вопрос о Гершензоне. "Ну при чем здесь Гершензон?" – отмахнется раздраженный читатель и отвернется. Назойливо потянем читателя за рукав. Гершензон очень даже при чем. Во-первых, он Печерина издавал и писал о нем. Во-вторых... Вообразите себе Михаила Осиповича Гершензона – историка русской литературы и общественной мысли, публициста, философа, переводчика, любимца любого "Указателя имен" и "Словаря русских писателей". Почтеннейший, благороднейший человек, пушкиновед, друг Ходасевича, один из веховских обличителей русского интеллигентского нигилизма. Очки, борода, скрещенные руки пастернаковского портрета. А теперь вспомните нигилистические руссоистские выходки Гершензона в "Переписке из двух углов". Почему? Откуда? Да вот, от Печерина. Только, в отличие от своего героя, Михаил Осипович боялся своей маргинальности и, боясь, стилизовал "почтенность", "культурность"; не умея плавать, устроился, так сказать, инструктором по плаванию. Заметил это, кажется, только Розанов: "В особенности "стилизуют" – Айхенвальд самого себя, Гершензон "прекрасного русского писателя"... Причем Гершензон несравненно умнее и талантливее Айхенвальда. Гершензона нельзя не любить, не читать, не уважать его книги и не иметь постоянного желания покупать все его издания5... Он сделал себе "стиль человека" и выбрал, согласованно уму своему, великолепнейшее положение "человека с пером, серьезного, достойного, любящего свое отечество, занимающегося не легкомысленными темами, а всё самыми серьезными, и принадлежащего не к какой-нибудь легкомысленной партии, а к линии, традиции и категории людей, начатых Петром Киреевским, Иваном Киреевским и, далее, Чаадаевым". От себя добавим: и, конечно, Печериным. Но ведь и Печерин был из стильнейших стилизаторов6! Вот некоторые его "стили человека": "одаренный ученый", "пламенный революционер", "пламенный проповедник" и даже... "славянофил": в 1865 г. он пишет в Россию: "Пора России перестать младенчествовать и обезьянничать Франциею и Англиею". И откуда пишет – из Дублина!
Владимир Сергеевич многократно и противоположно объяснял мотивы своих побегов. Самое раннее (и, быть может, потому самое искреннее) в письме графу Строганову за 1837 г.: "Я подписал свой окончательный договор с дьяволом, и этот дьявол – мысль". Но, полноте, мыслил ли он? Что называл он "мыслью"? Тут возможны два варианта. Первый: "мыслить" – это понимать, что в России очень плохо, а жизнь русская омерзительна. В таком случае, Смердяков – мыслитель, а Розанов – нет. Это, быть может, покажется кому-то само собой, ибо, если вдуматься, отцом русского прагматического западничества был именно форсистый карамазовский бульонщик. Но, на мой вкус, ни жульен отечественного западничества, ни щи родного славянофильства никакого отношения к "мысли" не имеют. На вкус Печерина – тоже. Не та возгонка. Во втором варианте предположим: для Владимира Сергеевича "мысль" – это "жест". Вот что он сам говорит по этому поводу: "Я уверен, что мысль есть не что иное, как электричество, или жар, или что-нибудь подобное, а жар необходимо предполагает движение". Подытожим: а все вместе (жар + движение) – есть жест.
Здесь мы вступаем в классицистические декорации Великой французской революции. Именно ее герои мыслили жестами. Вспомним Давидовых Горациев, или его же "Клятву в Зале для игры в мяч". Вспомним стремительно протянутую руку с головой казненного монарха, мощный кулак Дантона, разворот Бонапарта на Аркольском мосту... Эти жесты, рожденные словесами века Просвещения, пробивали в них пустоты и, тем самым, комментировали их. Рефлексия посредством движения. В этом (и только этом!) смысле, Печерин был истинным революционером, не только и не столько потому, что читал брошюрки Ламенне, Буонаротти и Сен-Симона. Выросший из слов, живущий словами, воспроизводивший слова, он мыслил бессловесно – жестом. Его жестом было бегство.
Так куда же и зачем бежал Владимир Сергеевич Печерин? Совершенно не важно. Важно – "от чего".
Бегство Печерина, его "жест", было бегством от слов, из слов, из языка, из своей культуры, из своей страны; затем – из чужой культуры, наконец, из любого языка вообще. Несколько месяцев, проведенные Печериным в траппистском монастыре – апофеоз его "жеста". Но, как мы знаем, он не выдюжил и постепенно вернулся: сначала к чужим словам, затем к чужой (ирландской, католической) культуре, затем – к своей, русской, культуре, наконец, – к своему языку. В этот момент он и стал писать свои записки. Здесь "жест" заканчивается и начинаются "слова"7; заканчивается "вечное настоящее" и начинается "история".
Очень важно отметить тот момент, во всех смыслах исторический, когда Печерин снова "заговорил". Обстоятельства изложены в "Замогильных записках", как обычно, бесподобным языком, волнительной интонацией, кудрявым синтаксисом: "В 1861 г. я носил белую одежду траппистов, работал с ними на поле в глубоком молчании, питался их гречневой кашею и молоком и ничем больше, и они были от меня в восхищении: "Ведь он, кажется, рожден для этой жизни! Как он легко ко всему этому приноровился!" Но это продолжалось всего каких-нибудь шесть недель, пока оно имело прелесть новости и пока я не услышал случайно от одной русской дамы8 о важных преобразованиях в России. Тут я не мог вытерпеть: "Как же мне живому зарыться в этой могиле и в этакую важную эпоху не слышать о том, что делается в России?""
Прищучила-таки Россия, сиречь История, нашего героя. "Итак, 19 февраля, освободившее 20 миллионов крестьян, и меня эмансипировало!" Уж куда больше эмансипировать: от жеста, от вечного настоящего, от вечности. И, пинком, – в Историю. В ту самую Историю, к которой Владимир Сергеевич в детстве был так равнодушен, причем представил свое равнодушие в несколько хармсовском роде: "Кроме отца, у меня был еще другой учитель – флотский офицер с деревянною ногою – достопочтенный и незабвенный Залесский: он учил меня писать и рисовать носы и глаза. В одно прекрасное утро раздался гром пушек со всех укреплений, так что у нас все стекла треснули. Это было известие об изгнании французов из России". Итак, Печерин рисует носы, а История палит из пушек. В результате лопаются стекла.
Хорошо, но почему бы не рассадить кастратов по электрическим эдипажам? Почему не поискать причин печеринского бегства (или изгойства) ниже пояса – там, где под грубой рясой таится нежное либидо? Да и сам Владимир Сергеевич будто уже расположился на психоаналитической кушетке и говорит, говорит: "...другая – была жена нашего полковника, хитрая и красивая полька, с которою отец имел почти открытую связь... Вот где узел моей жизни! Вот таинство моей судьбы! Вот греческая трагедия! Вот Орест, отмщающий за обиду не отца, а матери! Думала ли маменька, какое впечатление слова ее оставят на мне? Эта обида, нанесенная женщине и матери, глубоко запала мне в душу. Какое-то темное бессознательное чувство мести овладело мною и преследовало меня повсюду. Как иначе объяснить эту тоску по загранице, это беспрестанное желание отделаться от родительского дома, искать счастия где-нибудь в другом месте?" Итак, заботливый пациент все приготовил для присяжного фрейдиста: "греческая трагедия", "Орест", "темное бессознательное чувство"... Отец, жестокий и несправедливый, – Николай Первый; несчастная маменька, обиженная отцом, – Родина, Матушка Россия... Психоаналитик ласково кивнет головой: "Позитивная эдипальность", Александр Эткинд напишет статью "Эдип в Дублине", Борис Парамонов вынесет окончательный вердикт: "Кюстин наоборот" (Борис Михайлович объясняет привязанность маркиза к императору Николаю гомосексуальностью первого). Но, признаюсь, что ради такой банальной каши не стоило и с печью возиться. С венского доминиона возьмем лишь крохотную дань. Фрейд (в сочинении "Тотем и табу") утверждал, что история человечества начинается с запрета, которому подвергается бессознательное желание сыновей умертвить отца. Перефразируем: история для Печерина кончается, когда он, избегая бессознательного желания умертвить отца (императора), убежал из его дома (России)9, и вновь начинается, когда он убежал из траппистского монастыря.
А вот куда он прибежал: "...под деревьями меж опечаленных ангелов, крестов, обломанных колонн, фамильных склепов, каменных надежд, молящихся с поднятыми горе взорами, мимо старой Ирландии рук и сердец. <<...>> Это Святое Сердце там: выставлено напоказ. Душа нараспашку. Должно быть сбоку и раскрашено красным, как настоящее сердце. Ирландия ему посвящена или в этом роде". На севере Дублина, если двигаться от Кингз Инн по Филсборо Роуд, лежит Гласневинское кладбище. В одной из частей этого кладбища, кучкой, расположены четыре могилы. В трех из них похоронены ирландцы, в одной – русский. В двух из четырех покоятся знаменитые на всю Ирландию общественные деятели, в третьей – какой-то странный русский, четвертый покойник известен всему миру. Три из четырех могил натурально существуют; четвертая – литературного происхождения. Но хватит загадок. Надгробный камень Владимира Сергеевича Печерина находится на Гласневинском кладбище рядом с могилами великих политических вождей Ирландии XIX века: Дэниэля О'Коннела (ум. 1847 г.) и Чарльза Парнелла (ум. 1891 г.). Именно их склепы описаны в цитированном отрывке из шестого эпизода "Улисса" Джеймса Джойса. "Каменных надежд, молящихся с поднятыми горе взорами", – это описание надгробного памятника О'Коннелу. "Святое Сердце там", – тоже про него: О'Коннел завещал похоронить свое сердце в Риме, а тело в Дублине.
"Ирландия ему посвящена", – уже фраза из эпитафии Парнеллу. Но что делал Джойс в этом упокоилище страстей? Джеймс Джойс (в лице своего представителя Леопольда Блума) хоронил Падди Дигнама. Могила Дигнама – единственно всемирно известная на Гласневинском кладбище; потому что ненастоящая, потому что литературного происхождения. Литература сильнее жизни. Печерин прекрасно понимал это и настоящей своей могилой считал не четыре на два метра на севере Дублина, а свои "Замогильные записки": "... хоть одну печатную страницу, заявляющую о существовании некоего Владимира Сергеева Печерина. Эта печатная страница была бы надгробным камнем, гласящим: здесь лежит ум и сердце В.Печерина".
Автор "Улисса" не зря появился в нашем тексте. "Дублин" – значит "Джойс". Первое, что приходит на ум, самое верное. Но есть еще и второе. Как и Печерин, Джойс – беглец; и беглец от того же. От "кошмара истории" (выражение, вложенное в уста Стивена Дедалуса). И тот и другой бежали сначала от "кошмара национальной истории" (из России, из Ирландии), но это не помогло. Тогда они бежали от "кошмара истории вообще"; маршрут этого бегства один – в эстетизм. В случае Печерина в эстетизм католический, обрядный10; в случае Джойса – в эстетизм литературный, флоберовский. Где начинается монастырь с его циклическим укладом времени, там история кончается11. История кончается и у входа в монастырь литературного эстетизма, т.к. "прекрасное" исторически не обусловлено. Время эстета – циклическое, а не линейное, эстет в вечном ожидании "вечного возвращения" (пользуясь понятием великого эстета). Нет для него истории.
В конце концов, Джойс оказался сильнее. Пробуждением от "кошмара истории" стала для него Финнеганова побудка. Печерин не выдержал превратностей своего бегства и вернулся. "Вечное возвращение" не имеет к этому никакого отношения. Но география – тоже.
1 Читайте, читайте сочинение Игоря Смирнова "Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней"! Узнаете массу околокушеточного о папеньках, маменьках, кастрационных страхах и шизонарциссизме русских литераторов. И каким благостным историографическим оптимизмом дышит последняя фраза этой книги: "Дальнейшее психологическое исследование ранних форм культуры зависит от успехов стадиологического изучения сравнительно поздней духовной эволюции ребенка, совершающейся после того, как он выходит из периода кастрационных фантазий"! Все впереди! Скоро мы познаем истину!
2 "Любимцем", конечно, не в прямом, а в переносном. Хотя, зная "педагогические" склонности графа Уварова, мог бы стать и в прямом. Так, из любопытства.
3 Вот пример неряшливости великого Искандера: "Эллинист Печерин... сделался иезуитским священником и жжет протестантские библии в Ирландии". И иезуитом не был, и библий не жег.
4 Не буду голословным: "Я так воспламенился любовью к квакерам, что тут же брякнул по-французски письмо в Филадельфию к обществу квакеров, прося их принять меня в сочлены и прислать мне на это диплом, а также квакерскую мантию и шляпу!!! Какова штука? Вы смеетесь? "Какая колоссальная глупость!" А мне так плакать хочется. Ведь это просто показывает, что русский человек бьется, как рыба на мели, не знает, куда ударить головою". Искушенный читатель оценит неожиданно точное "брякнул по-французски письмо"; невинный англицизм "прислать мне на это диплом"; три восклицательных знака, словно перья, венчающие квакерскую "шляпу", превращая ее чуть ли не в мушкетерскую; обидчивый вскид "вы смеетесь?" и прочие вещи, достойные быть предметом мистической беседы с Кончеевым.
5 Вопль небогатого библиофила.
6 "Если бы какая-нибудь буря занесла мой челнок на берег Цейлона, и я бы нашел там приют в каком-нибудь монастыре буддистов, – я бы так же ревностно исполнял все их правила и постановления..." Так вот, значит, почем фунт отборнейшей "русской ностальгии по Западу"!
7 "...Жест не может сопровождаться словом, потому что он выражает только кратчайший момент, а именно: настоящее, спрессованное до отменяющей всякое развертывание точки". (М.Ямпольский. "Жест палача, оратора, актера")
8 Где он взял ее в траппистском монастыре?
9 "Одной из... причин (принятия католичества. – К.К.) был непомерный страх России или, скорее, страх от Николая. Важнейшие поступки моей жизни были внушены естественным инстинктом самосохранения".
10 "Верь мне, друг, в звуках органа, сопровождаемых церковным песнопением, в дыме ладана, поднимающемся к небу сквозь солнечный луч, в любой иконе Богоматери больше истины, больше философии и поэзии, чем во всем этом хламе политических, философских и литературных систем" (из письма Печерина Ф.Чижову).
11 "История монаха – то же, что история карманных часов. Вот ты их завел, и они идут: стрелка медленно передвигается от секунды до секунды, от минуты до минуты, от часа до часа в продолжении 24 часов. Вот так и жизнь монаха".
Продолжение книги "Профили и ситуации"
|