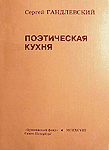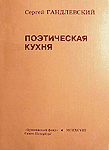В прошлом году имя Сергея Гандлевского стало известно самой широкой публике. Его повесть «Трепанация черепа» прочли даже газетные журналисты. Критики единодушно прочили её на Большого Букера, но получила она Малого. Зато другую заметную литературную премию - АнтиБукера (учредитель «Независимая газета») - получила книга стихов Гандлевского «Праздник». Одноименного события в жизни не произошло, потому что, по мнению лауреата, учредители АнтиБукера повели себя недостойно. Гандлевский отказался от приза в $ 12001 и в заявлении для прессы напомнил граду и миру, что «поэтов нельзя унижать. Смирившийся с унижением поэт потерян для поэзии. А поэзия выделяет кислород идеализма, без которого общество превращается в зону».
- Сергей, Вам, наверное, надоело обсуждать ваши премиальные мытарства?
- Знаете, это уже дело прошлого. Теперь решает время; оно, есть такая поговорка, - честный человек. В конце концов, на одной чаше весов - мои писания и мой поступок, на другой - газетная бумага. Можно переходить к следующему вопросу.
- Лирический герой ваших книг - рефлектирующий аутсайдер из литературного подполья, утешенный мыслью, что «так или иначе жизнь сложилась раз и навсегда». Он утешился, а жизнь пересложилась. Теперь ему дают премии, он берёт или не берёт, но это уже - совершенно иной статус. Как изменившийся статус повлиял на образ героя?
- В зрелые годы поздно менять осанку. Мне кажется, моя жизнь пока складывалась удачливо. Что с одной стороны неплохо, правда? А с другой стороны, удачливость оборачивается неуютным самоощущением: ведь если тебе скверно, понимаешь, что в этом виноват только ты, это твоих рук дело.
- Нет «объективных» обстоятельств?
- Вот именно, не на что кивать.
- Поощрялись ли в семье ваши первые творческие опыты? Что у вас была за семья?
- Это была, как я теперь понимаю, хорошая советская интеллигентная семья. Например, не могло быть речи о плохом Сталине, но хорошем Ленине. А вот художественные вкусы у меня с родителями были во многом разные. Я расходился с отцом и в каких-то бытовых представлениях, в частности, думал, что он - неважный воспитатель. С некоторым удивлением, а иногда и с досадой, я замечаю, как жизнь вынесла меня на отцовскую орбиту, и ловлю себя на интонациях отца, его привычках, в том числе и педагогических. Хорошо бы теперь ему об этом рассказать, но его нет в живых.
А стихи я начал писать мальчиком. Стихи, написанные в восемь-девять лет, - обаятельные и нравятся мне до сих пор: «Мы дрались с ним уж двадцать раз И светских мы чужды проказ». А потом я стал подростком и начал писать рутину. Отрочество вообще, по моим наблюдениям, довольно рутинная пора жизни. Я люблю детство и молодость, зрелость мне нравится. От старости многого жду.
- Правда? Не страшно?
- Опрятная, сухая старость...
- Кинематографичная немного?
- Особенно, если старик не вовсе безбожник... Нет, замечательная, наверное, пора. Оставляет материальный азарт, вдруг понимаешь, что какие-то вещи никогда не будут принадлежать тебе, что какие-то края ты уже не увидишь никогда. Можно бескорыстно смотреть на красавицу и желать ей хорошего жениха. Когда, наконец, у тебя есть время повозиться с детьми. Я имею в виду внуков. От них не отмахиваешься, как сейчас от дочери или сына, потому что постоянно спешишь куда-то. Всё. Спешка кончилась. И теперь можно всерьез слушать бормотание пятилетнего мальца.
- А юности своей вы не любите?
- Как-то, я смотрю, у людей моего поколения не получилось с юностью. Почти никто не вспоминает о ней с удовольствием.
- Это какие возрастные границы?
- С четырнадцати до восемнадцати. Ты уже не ребенок, но еще нет решимости быть самим собой. И ты разделяешь интересы стаи. Стараешься быть своим в доску. Я, как о себе, прочёл у Льюиса, что самые постыдные поступки человек совершает, когда он что-то делает за компанию. А самый компанейский возраст - юность.
- В молодости, как видно из стихов и прозы, вы вели кочевую богемную жизнь. Вы называете ее карнавальной. В кавычках и без.
- Я был богемным парнем, легким на подъём. Даже, видимо, переборщил со странствиями, потому что сейчас мне никуда не хочется выбираться. Самое счастливое время дня теперь
- это, по возвращении с прогулки с собакой, переодевшись в халат...
- над книгой или листом бумаги...
- ... запершись, включив Баха. А двадцать лет назад чувство довольства приходило, когда сидишь на каких-нибудь тюках в кузове, а грузовик грохочет по серпантину от Ванча к Хорогу.
- А в Париже выходят ваши стихи, а в Москве вас вызывают в КГБ.
- Да, была и такая нервотрёпка, но не более того. Это, как раз, к теме объективно удачливой жизни. Переживания, которые положены поэту, - я попробовал, но в щадящих дозах. Скажем, страх смерти, «нездешняя прохлада». Я тяжело заболел, свесился в небытие, но выздоровел, и вот мы сейчас сидим и беседуем, как ни в чём ни бывало. Или недавно я подвергся публичному шельмованию, на собственном опыте ознакомился с тематикой «поэт и чернь». Но в облегчённом варианте, с послаблением, в условиях свободы. Я знаком с серьёзными неприятностями, но это знакомство - тьфу-тьфу-тьфу - не потребовало ...
- ... всей жизни?
- Да. Остальное - дело воображения, которое помогает тебе лишний раз ужаснуться и восхититься участи настоящих страдальцев-поэтов.
- Вы часто думаете о них?
- Я чувствую себя их собеседником. У меня есть круг живых собеседников, а есть и такой круг.
- «И с мертвыми поэтами вести Из года в год ученую беседу...»
- Я прочел у Бродского и согласился, что поэт пишет не для будущих поколений, а в расчёте на мнение мастеров прошлого. Конечно, представляешь себе какого-нибудь личного знакомого, понравится ли ему твоё сочинение, но бывает, что смотришь на собственное стихотворение глазами Баратынского или Ходасевича, спрашиваешь с надеждой: вам понравилось?
- Это разговор с равными или со старшими?
- О равенстве не может быть речи: они старше на смерть и уже победили, а ты во взвешенном и неопределённом состоянии, как и все живые. Думаешь о другом: симпатичны ли им твои стихи, ты сам, могли бы они войти в твои обстоятельства?
- Теперь давайте поговорим о «круге живых». Ваши друзья и творческие единомышленники, Алексей Цветков и Бахыт Кенжеев, в свое время уехали за границу. А вы предпочли Хорог и Ванч и вполне реальную перспективу путешествия в республику Коми. Логика этих обстоятельств стала понятной только теперь?
- Я вижу логику отщепенства. Мое отщепенство приобрело не форму эмиграции, а здешнее воплощение: экспедиции, сторожевая служба, богемный быт. Это чистая случайность. С тем же успехом я мог бы сидеть сейчас в Нью-Йорке перед корреспондентом «Нового русского слова» и отвечать на вопрос, почему я не остался на родине.
- А вы по-человечески своим друзьям не завидовали? У них выходили книги в «Ардисе», а вы сторожили строительное управление.
- Я за границей тоже изредка печатался. Неловко в этом признаваться, но двадцать лет назад, после первой парижской публикации была вздорная, но навязчивая грёза, что Париж гудит. Наверное, под влиянием той же грёзы, уже во время перестройки, после первых своих здешних публикаций звонили знакомые авторы-эмигранты узнать, гудит ли Москва? Города из-за стихов не гудят. Хорошо ещё, если на твои вышедшие за границей писания обратили внимание две-три пожилые женщины где-нибудь в Канаде или Калифорнии.
- Это те самые «три еврейские девушки», которые только и будут читать поэзию по пророчеству Есенина?
- Ага, их уломали дети и увезли. Сказали, что за погибших в войну мужей они будут получать хорошую пенсию.
- А что, глухо стало в России поэту, не рождает отзвука среда?
- Это не беда литературы. Это беда здешней цивилизации. Что значит «литература не рождает отзвука»? А какое-нибудь громкое разоблачительное политическое дело рождает отзвук? Разоблачённый политик что, складывает бумаги в портфель и уходит в отставку? Нет, здесь какое-то очень наплевательское отношение к слову. Собака лает - ветер носит.
- А говорят, что в России слово - это всё. Самая вербальная культура. Литературоцентризм.
- Не знаю, надо ли нам забираться в эти дебри. Но вообще, я думаю, в нашей стране бок о бок живут две разные цивилизации: большая и маленькая. Но за обе представительствует перед Западом - меньшая цивилизация, западного же покроя. Почему наша страна - ребус для мира? Потому что о ней судят по культуре, дипломатии, политикам-реформаторам, говорящим по-английски. По этикету, точнее, по этикетке. В бутылке - портвейн или кефир, а на ней написано «Капли от кашля». Мои слова - вовсе не возмутительное высокомерие по отношению к родине. Я совершенно искренно не уверен, что конечная правота за нами - людьми с этикетки, а не за большинством.
- Но это уже какое-то генетическое отщепенство.
- Я предпочел бы назвать его культурным. Были, наверное, в Индии туземцы, которые по привязанностям, культурным привычкам считали себя англичанами. И это не значит, что английская культура выше индийской, или, тем более, нравственность простого индийца, сидящего на обочине дороги, ниже, чем у его англизированного соотечественника. С годами я свыкся с мыслью, что принадлежу не к той цивилизации, к которой принадлежит девять десятых населения моей страны. Это сужает круг претензий. Как литератор понимаешь: ты не рупор этих людей. Ты можешь к ним хорошо относиться, но у тебя нет полномочий говорить от их лица.
- Это значит, художник свободен. В том числе - писать ему стихи или прозу. Что сегодня выбирает свободный художник Сергей Гандлевский?
- Я бы пожелал себе вообще писать. Ну а если привередничать, то - прозу. Потому что в прозе для меня, новичка, больше неожиданностей, риска. А может быть, как прозаик, я окажусь вроде Робертино Лоретти: попел и потерял голос. Но я определенно не буду писать в жанре «Трепанации черепа». Она написана криком «волки, волки», как, помните, у Толстого. И второй раз мужики не прибегут.
- Поясните, если можно. Куда не прибегут, на вашу жизнь полюбоваться?
- Нет, это, конечно, образ, но самому не захочется симулировать пафос этой вещи.
- Да, от вашей повести есть ощущение комка, который непременно должен выйти из автора.
- Очень точно сказано - про «комок»! Я задним числом подсчитал, сколько раз в моей книге героев рвет. Я аховый фрейдист, но что такие вещи отзываются в словах - для меня это несомненно. Да, мне хотелось «изблевать из уст своих». И я изблевал.
- А стихи пишутся?
- Стихи пишутся в том же режиме, что и всю жизнь. Сейчас прибавился новый жанр, назовем его «заметки». О литературе и писателях. Наверное, появилось что сказать. Изживается поколенческий инфантилизм. Нас долго не пускали во взрослую жизнь. А она способствует мужскому самочувствию. Грибоедов в свои тридцать, если не ошибаюсь, был послом, а мы в том же возрасте были трудными пишущими детьми. И вдруг я спохватился: Боже мой, если кто-то из нас - сорока или пятидесятилетних - сейчас умрет, скажут для приличия «безвременно», но ясно же, что жизнь в главных чертах прорисована.
- Иными словами, пора классиком становиться?
- Пора дать себе отчёт, что ты можешь занять какой-то соразмерный твоим способностям объём в культуре. На тебя ложится ответственность за то, с какими учебниками будут иметь дело твои внуки. Пожалуйста, ты можешь устраниться, но знай, что завтра объём этот будет заполнен. И возможно - шарлатаном. И внуки спросят: что же ты тогда замкнулся в башне из моржовой кости? Появилось ощущение, что ты можешь немного менять культурный климат. Появился шкурный интерес будущего деда.
- Отец говорит в вас громче, чем литератор?
- Мы не имели права упрекать наших родителей за то, что в школьных учебниках враньё. Наши родители не могли что-либо изменить, для этого требовался героизм, а люди не обязаны быть героями. А мы можем, и не ценою героизма. Нас жизнь проверяет на вшивость, а не берет на излом.