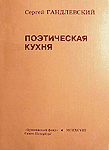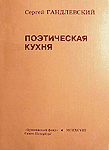Есть такая бросающаяся в глаза и общепризнанная поэтическая добродетель - распахнуть дверь в мир чуть ли не ногой, заявить о себе во весь голос, чувствовать себя пупом земли, баловнем и первенцем. Точно твой день рождения был и первым днём творения. Поэты этой породы могут сколько их душе угодно рядиться в одежды скромности и смирения - никого, кроме себя, им не обмануть. Самозабвенные эгоцентрики, открыватели Америки и изобретатели велосипеда, они умудряются делать свои, казалось бы, обречённые на провал »открытия» и «изобретения» с таким не терпящим возражений простодушием, что и впрямь обнаруживают новизну в давно, вроде бы, известном. Они наделены «каким-то вечным детством» и поэтому иногда могут вызывать досаду, и всегда - биологическую зависть.
Есть и другой поэтический темперамент, иная доблесть, не менее дерзкая, хотя и не такая очевидная и жизнерадостная. Врождённая меланхолическая наблюдательность, восприимчивость к постороннему эстетическому опыту, историко-культурное чутьё исключают для поэтов описываемого рода представление о себе, как о первооткрывателе, о собственной речи - как о первозданной. Для них само собою разумеется, что пишущий складывает «чужую песню», главная их забота - произнести её «как свою». Искусство видится им вечным круговоротом сходных умонастроений, образов, приёмов, поэтому у этих авторов язык не повернётся разговаривать с читателем взахлёб, «на голубом глазу». И если один из самых ярких представителей «непосредственной» поэзии сравнил её с «греческой губкой в присосках», то поэзию «опосредованную» можно было бы сравнить с пресс-папье. На нём отпечатались чужие чернила, но оттиск прочитывается, как новое письмо. Этим и обращают на себя внимание при первом же знакомстве стихи Льва Лосева.
Лосев припозднился на праздник поэзии, до поры ему хватало «чудных сочинений» ленинградских друзей и сверстников - С.Кулле, Г.Горбовского, Е.Рейна, М.Ерёмина, Л.Виноградова, В.Уфлянда, И.Бродского. Но Лосева не смутило, что он пришёл в самый разгар события. У него хватило бодрости духа и весёлости сесть за стол, как ни в чём не бывало, даром что коронные блюда малость заветрились, салаты разворочены, десерт уже подан, кое-где окурки в шпротах, а в воздухе висит такой густой застольный галдёж, что, кажется, слова невозможно вставить. Но именно эта стадия празднества Лосеву и сделалась мила: строй нарушен, всё без чинов, беседа представляет собою гремучую смесь учёности и похабщины, цитаты из классиков перемежаются с дворовыми прибаутками, а речь педанта-эрудита перебивают глумливые замечания ёрника. Праздником именно такой словесности делится с читателем поэт Лев Лосев.
В чём-в чём, а в грехе солидности, этой второсортной, по Стерну, добродетели, упрекнуть Лосева нельзя. Вереницу беспечных лирических героев русской поэзии - повес и хулиганов - Лосев дополнил ещё одним обаятельным и новым для неё персонажем - интеллигентом-забулдыгой. Поэт пожалел и приголубил, как клоун Каштанку, речь-полукровку - многолетнее крамольное словопрение и витийство на кухне под водочку.
Существует таинственная связь между поэзией и жалостью. Набоковский Джон Шейд на вопрос своего исследователя и мучителя Кинбота, что для него, поэта, слово-пароль, ответил, не задумываясь: «жалость». Есть подозрение, что в поэтическом участии нуждаются в первую и главную очередь затрапезные предметы и события жизни - проходные дворы, пересуды в трамвае, будничная нервотрёпка, редкие минуты беспечности,
А совершенство доводить до ума при помощи искусства не надо, оно уже совершенно.
Капустничество, кураж, малогабаритный, но полнокровный карнавал, всё это - шутовское облачение такого серьёзного и сущностного для лирики качества, как естественность. Лосев ни разу не встаёт на ходули, и интонации его веришь с первой же строфы. Эти стихи застрахованы от старения и пародирования. Этот стиль трудно перерасти, подытожить и передразнить - он и без посторонней помощи подмигивает каждым словом.
Удельный вес современного фольклора велик здесь чрезвычайно. Отчего эти беспризорные и анонимные речения всегда придают литературе привкус достоверности, я сказать не берусь, но только это так. Советское народное творчество просвечивает сквозь многие строки Лосева, мало того, случается, выбирает по своему усмотрению и персонажей. Бурбон-полковник из «Роты Эрота», конечно, неправдоподобен, это не реальный офицер советских вооружённых сил, а старший брат поручика Ржевского - героя многосерийного анекдота. Соображения благопристойности делают для критика затруднительным подробный разбор некоторых речевых прототипов лосевской лирики, поскольку среди них - даже надписи в общественных туалетах, но внимательному читателю этих стихотворений придёт на память и детсадовское детство, и пионерское отрочество, и армейская или студенческая юность. И всё это скоромное варево речи поэт подал нам на блюдечке с голубой каёмочкой гармонии.
Попрекнуть Лосева литературностью - всё равно, что попенять салонностью Северянину. Пресловутое понятие «вторичность», как синоним творческого малокровия, перестаёт в данном случае что-либо означать. Вторичности столько - вернее, только она и есть, - что опосредованность, окультуренность переходит в новое качество, подсказавшее мне название заметки.
Но эта дерзость не единственная. Сама камерность лосевского писательства - вызов русской литературе, знаменитой громадьём своих намерений, издевательство над школьной темой «О назначении поэта». Он, Лосев, и есть заклеймённый Лениным «пописывающий писатель». Но, как это ни парадоксально, лучший образец гражданской лирики за последнее десятилетие принадлежит перу Льва Лосева. В том числе и потому, что написаны стихи не трибуном-профессионалом в сознании собственного долга и общественной значимости, а частным лицом, дилетантом. Вообще, к слову сказать, я убеждён, что намеренный психологический дилетантизм - хорошее противоядие от всякого рода вкусовых издержек узкой специализации и означает, на самом деле, свободу. Привожу помянутое стихотворение полностью:
«Извини, что украла,» - говорю я воровке;
«Обязуюсь не говорить о верёвке», -
говорю палачу.
Вот, подванивая, низколобая проблядь
Канта мне комментирует и Нагорную Проповедь.
Я молчу.
Чтоб взамен этой ржави, полей в клопоморе
вновь бы Волга катилась в Каспийское море,
вновь бы лошади ели овёс,
чтоб над родиной облако славы лучилось,
чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось.
А язык не отсохнет авось.
Читатели Лосева становятся свидетелями замечательного и многозначительного превращения: стихи на случай, обаятельные пустяки, филологические дурачества на наших глазах выплёскиваются за переплёт альбома и впадают в течение отечественной поэзии, отчего она только выигрывает. А что, кстати, не на случай? Или, переходя на личности, - кто? Честертон заметил, что множество начинаний, замышлявшихся на века, забывалось до обидного скоро, а затеянному смеха ради, от нечего делать случалось пережить поколение, и не одно. Взять хоть «Дон Кихота».
От родительского жанра - альбома - стих поэта унаследовал щегольство, склонность к словесной эквилибристике, делающей лирику Лосева, помимо всего прочего, наглядной энциклопедией русской версификации.
Виртуозностью слога Лосев обязан, во-первых, складу своего дарования, потом - помянутому жанровому происхождению, и не в последнюю очередь - эмиграции. Эмиграция, я думаю, прививает бережность к языку - ведь он под угрозой забывания - и, в то же время, оделяет дополнительным зрением, взглядом на родной язык, как на иностранный; на живой, как на мёртвый. Бродский сказал: «Именно в эмиграции я остался тет-а-тет с языком.» Пускает пузыри, развивается и мужает недоросль-язык, конечно, дома, но лоск и вышколенность, случается, приобретает «в людях», заграницей. Г. Иванов, Набоков, Бродский, Лосев, Саша Соколов, Цветков.
Мастерство мастерством, но лосевское стихосложение так играет, и радует, и имеет смысл оттого, что одушевлено чрезвычайно обаятельной, умной и человечной интонацией. Только интонация умеет преобразить строительные леса, крепёж, технику стиха в оживлённую оснастку стихотворения. Только интонация, будучи главной приметой поэзии, - нерасчленима, необъяснима и неизменно загадочна по своей природе. Я не понимаю, почему это трогательно -
Там крошечный нам виден пассажир,
он словно ничего не замечает,
он пред собою книгу положил,
она лежит, и он её читает.
-но это трогает.
Творчество Льва Лосева имеет непосредственное отношение к старинной смеховой традиции. А у неё в обычае проверять на прочность окружённые безоговорочным почитанием культурные авторитеты и установления. Посылать их, простите за выражение, «путём зерна». Подлинным ценностям такое унижение идёт только на пользу, участь дутых величин - незавидна. У смеха обострённое чутьё на фальшь, затхлость, благостность, ему нравится разбить близорукому прекраснодушию розовые очки, и один только вид хрестоматии приводит его в возбуждение. Движимый этим симпатичным азартом Юз Алешковский некогда прогнал сквозь матерщину родную речь, подавшуюся в газетную передовицу.
Талантливое хулиганство хорошо, потому что талантливо, но ещё и полезно в смысле санитарно-гигиеническом. Дал основания для привлечения его к ответственности по той же статье и Лев Лосев. Походя он задирает целый ряд святынь. «Деревенскую прозу» за почвенническо-романтический «сон золотой». Пастернака за гемютность и трагикомическую попытку привить к зощенковской коммуналке мещанскую сантиментальность («Зимой мы расширим жилплощадь,/Я комнату брата займу...»). Маяковского - за дело. «Русскую идею» в охотнорядском исполнении. Пушкина и Арину Родионовну за привычку украшать своею дружбой кондитерские изделия и за прочую рутину.
Октябрьский переворот отодвинул от нас Россию в историческую даль, сделал её культуру диковиной. Советское образование приручало и одомашнивало классическую литературу, отводило её от края бытия, чтобы и нам туда не заглядывать. Впрочем, и без советской власти в благоглупости недостатка не было. Вспомним «Дар». Так или иначе, но в восприятии потомков русская классика потеряла прелесть новизны, стала сводом «священных» текстов, писанием. А писание, будь оно и со строчной буквы, обречено иметь дело с ревностью, разночтениями, апокрифами, изуверством и кощунством.
Существует несколько более или менее почтительных переложений «канонических текстов» русской классики, выполненных, Лосевым, Рубинштейном, Сашей Соколовым и некоторыми другими авторами. (Например, «Приглашение к путешествию» И. Бродского, вероятно, имеет в виду «Тёмные аллеи»). Классические сюжеты разделяют участь притчи: «Кавказский пленник» Толстого в толковании Арсения Тарковского и Льва Лосева. Возможно, наконец, и святотатство - Пригов, Сорокин.
Артистичное глумление Лосева, отсутствие у него благочестивого - с придыханием - отношения к великой литературе прошлого объясняется предельной насущностью её содержания, а всё предельно насущное стоит очистительной ереси.
Мировоззрение Лосева отличает последовательный пессимизм. В этом качестве Лосев уступает из современников только Иосифу Бродскому, предчувствующему - наваждение эволюционного повтора - последний день, когда всех нас с нашим слабым «не надо» накроет море, «грядущему моллюску готовя дно». В стихотворении «Джентрификация» таким же безрадостным замкнутым кругом предстал Лосеву исторический прогресс:
Как только нас тоска последняя прошьёт,
век девятнадцатый вернётся
и реку вновь впряжёт,
закат окно фабричное прожжёт,
и на щеках рабочего народца
взойдёт заря туберкулёза,
и заскулит ошпаренный щенок,
и запоют станки многоголосо,
и заснуёт челнок,
и застучат колёса.
Ответом на этот мировоззренческий мрак могут быть или неизбывное отчаяние или мрачная весёлость. Лев Лосев выбрал второе. Он действительно очень весёлый и мрачный писатель.
Все симптомы литературы 2, в просторечии называемой «постмодернизмом», - цитатность, ирония, игровое начало, литературная рефлексия - сейчас более чем распространены, и Лосев не может считаться законодателем моды. По какому-то недоразумению в сознании авторов, критики, публики эти признаки стиля жёстко повязаны с имморализмом, релятивизмом, ширпотребом, бесстрастием. И здесь Лосев с его неложным пафосом, мастерством кустаря, мужественной весёлостью, человечностью остаётся почти в одиночестве, здесь он по-настоящему оригинален, и следовать ему бесполезно, потому что это уже не мода. Удивительное дело: казалось бы, ни слова в простоте - но ведь не сушит, и даже, напротив, чуть ли не застит взор:
Жизнь подносила огромные дули
с наваром.
Вот ты доехал до Ultima Thule
cо своим самоваром.
Щепочки, точечки, всё торопливое
(взятое в скобку) -
всё, выясняется, здесь пригодится на топливо
или растопку.
Сизо-прозрачный, приятный, отеческий
вьётся.
Льётся горячее, очень горячее
льётся.
1995 г.
|