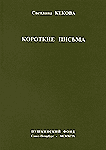
СПб.: Пушкинский фонд, 1999.
Серия "Автограф", [вып.31].
ISBN 5-89803-021-2
64 с.
В сокращении
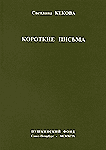 |
СПб.: Пушкинский фонд, 1999. Серия "Автограф", [вып.31]. ISBN 5-89803-021-2 64 с. |
* * *
Нет уже ни пространства, ни времени,
ни страдания, ни языка.
Только музыка в городе Бремене
все еще существует, легка.
Крендель вновь золотится над булочной,
как бессмысленной жизни итог,
и во тьме расцветает полуночной
отвратительный белый цветок.
В пыльных зарослях желтой акации,
обступившей пустынный перрон,
мы открыли закон гравитации -
но на души не действует он.
И опять поднимаешься в гору ты,
чтоб не сыпалась жизнь, как труха:
животы циферблатов распороты,
обнажились часов потроха.
Умираем мы, спим и обедаем,
громко плачем, слова говорим,
и какие-то цели преследуем,
и не ведаем, что мы творим.
Закачаются ветви еловые,
как ресниц ослепительный взмах -
и появятся круглоголовые
дети смерти в родильных домах.
Нет ни меда, ни хмеля, ни солода,
ни горящей воды, ни огня.
Пляшет в небе проклятое золото,
второпях убивает меня.
Ты расколешь луну, как посудину,
и научишься к старости гнать
неуемное племя иудино,
чтобы юность свою вспоминать, -
как крылатые лошади цокали
по горячим камням мостовой,
Мандельштама мы видели, Блока ли
уходящими вниз головой
в непомерные ямы воздушные,
где беременны смертью слова,
где живет и твоя непослушная,
золотая твоя голова...
1993
КОРОТКИЕ ПИСЬМА
*
Как печален жених, говорящий своей невесте:
"Уберем светильник, сияющий в темном месте,
да, во всем подобен он нашим телам и душам,
уберем светильник, случайно его потушим".
Но, почувствовав вдруг дуновенье иного ветра,
не огонь, а жизнь разгорается в стиле "ретро",
и любовь становится просто стеклянным звуком,
а наука страсти - подобно другим наукам -
не исканье истин, а эхо имен случайных
в лабиринтах тела, в его закоулках тайных.
*
Твой случайный спутник в постели был пьян и весел.
Сеть из лунного света рыбак над водой развесил.
Как он мучил женщин, как долго он жил на свете,
чтобы тени рыб попадали в такие сети!
Утоленье жажды, томление тел бездомных
или тени птиц в бесконечных глубинах темных,
или сонмы душ, проходящих свои мытарства,
что когда-то ночью венчали тебя на царство.
*
Перед Богом мы оправдаться ничем не можем -
ни чужой любовью, ни собственным брачным ложем,
ни потоком слез на дороге пустой и пыльной,
ни зажатой в горсть материнской землей могильной.
Как младенец в чреве, в гнезде засыпает птица,
и в твоем лице проступают чужие лица.
*
Ты водой соленой во мне разжигаешь жажду.
Я ищу блаженства, но в этом блаженстве стражду.
Для страданья, впрочем, всегда остается место.
День уже обвенчан, и ночь ли - его невеста?
Их любовь связала огнем голубым и беглым,
а закат сегодня как будто подернут пеплом,
потому что, милый, надежда на рай безумна,
потому что время над миром течет бесшумно.
*
Омывают смертных струи его, потоки.
Твой жених сквозь слезы такие читает строки:
"Ключ торчит снаружи в неплотно прикрытой дверце,
дом дрожит от стужи, любовь разрывает сердце"...
Все пространство жизни пронизано этой дрожью,
откровенной ложью, надеждой на милость Божью.
По ночам глаза твои Путь отражают Млечный,
а в сосуде тела душа - как огонь увечный
или как волна, у которой изгибов много,
но она одна отражает не смерть, а Бога.
* * *
Там жили понедельник и среда.
Среда любила маленькие вещи -
иголки, гвозди, дыры в потолке.
А понедельник плакал иногда,
по воскресеньям выглядел зловеще.
Возились тихо мыши в уголке -
их злые дети с длинными хвостами -
и крошки хлеба прятали в руке.
Вода перемещается в реке.
Любовники меняются крестами.
Вот шевелится рыба в рыбаке
остатками поджаренного тела.
На плоском блюде блещет чешуя.
Рыбак стоит в дурацком колпаке,
душа летит, куда она хотела,
а не туда, куда хотела я.
Ее встречают вторник и четверг,
грозы июльской Божий фейерверк,
безумный дятел, жемчуг пресноводный.
Там стая птиц легка, как детский всхлип,
и караван ветхозаветных рыб
бредет по суше, ни на что не годный.
* * *
Настала ночь - и свет дневной исчез.
Был дар молчанья равен дару речи.
Перед большой иконою небес
каштаны молча зажигали свечи.
Дневная пыль была еще тепла,
и на восток одна река текла,
в другой реке росли воды кристаллы,
как у купца лихого капиталы.
Купец торгует, рыба воду пьет,
и вьет любовь (так птица гнезда вьет)
из наших душ пеньковые веревки.
Держа огонь, как сердце, под полой,
идет торговец пеплом и золой,
а мать ребенка гладит по головке
и говорит: "Ты так тревожно спишь,
а полночь бродит в зарослях малины,
но будет день на кровлях плоских крыш
купать луну и птиц лепить из глины.
К тебе, мой сын, вернется твой отец -
он так давно в горах пасет овец,
что растерял послушливое стадо.
Он с посохом и нищенской сумой
по склонам гор уже идет домой.
А ты не плачь, дитя мое, не надо..."
CTAHCЫ
1
В Тамбове сумрачном, в Саратове богатом
брожу одна по каменным палатам,
по улицам, ослепшим от жары.
То в проходные захожу дворы,
то хмурым голубям-аристократам
я, поклонившись, приношу дары.
2
Вокруг меня под куполом небес
щебечут птицы, свет растет, как лес,
его листва отбрасывает тени.
И графские развалины сирени
собой являют нашей жизни срез.
Часы идут, но времени в обрез.
3
Вот дом плывет, подобно кораблю,
собой горячий воздух раздвигая.
Сказать бы мне, как я тебя люблю,
покуда жизнь не началась другая.
Там будет время течь наоборот,
скелеты смысла покрывая плотью...
Вот женщина выходит из ворот,
зовет домой какую-то Авдотью.
4
На маленьком столе стоит еда -
лук, помидоры, жареная рыба.
Но как без чувства страха и стыда
зайти, заплакать и сказать "спасибо"?
Горит светило в сорок киловатт,
бормочет смерть в своих владеньях частных,
что общий облик слова угловат -
в нем проступают косточки согласных.
5
И не понять, в чем держится душа.
Ключицы "у", худые ребра "ша"...
Пусть воздух лег всей тяжестью на крышу,
любовь свою, как тело, потроша,
ты закричишь - и я тебя услышу.
6
Приму, как крест, страдания твои.
У голубей соседних воробьи
воруют хлеб - раскрошенное время.
Стрижи между собой ведут бои.
Машина едет с надписью "ГАИ",
бредет дитя, оставленное всеми.
7
Болтается котомка на плечах,
и виден ангел в солнечных лучах,
как в каждом слове виден смысл бездонный...
Промолвит ангел, над землей летя:
- Куда же ты, голодное дитя?
- Я смысл несу в огромный мир бездомный...
* * *
На усталой коже оставив метку,
что во сне похожа на букву "йот",
покидает птица грудную клетку
и всю ночь в прозрачной листве поет.
Воздух тонок ночью, как шелк японский,
под окном каштан отцветает конский,
и горят его восковые свечи,
как прямое слово предсмертной речи.
От огня и жара, сухого пыла
в узком горле плавится алфавит.
Я забыла все, что со мною было,
а в листве поет, точно царь Давид,
соловей, возносящий молитвы Богу -
то забытую он пропоет эклогу,
то в беспамятстве свищет свои псалмы.
Рыб горбаты спины. Земли холмы
расцветают ночью травой узорной.
Мокнут сети ловчие. Спит ловец,
и пастух, бредущий тропою горной,
ищет стадо заблудших своих овец.
Я уже не плачу и не тоскую,
наудачу славлю звезду морскую,
твоего убежища свет туманный,
где мой сон скитается безымянный.
А в моем отечестве, на границе
безымянной правды и старой лжи,
как слова на белой пустой странице,
в равнодушном небе снуют стрижи.
* * *
Надо мною жук летает майский,
он кружит у самого виска.
И похож на сад цветущий райский
город узкоглазый и китайский,
весь в морщинах желтого песка.
Где-то русло высохшее Леты
ждет дождя небесного - и вот
мокнут башни, храмы, минареты,
и бредешь, измученный, к горе ты,
чтоб взобраться на ее живот.
В Божьей славе или в Божьем гневе
райский сад - все тот же райский сад,
но Адаму ведомо и Еве,
что в земле младенец спит, как в чреве,
и легка твоя дорога в ад.
Вьется в листьях змей многоголовый,
и щебечут птицы целый день,
на горе прекрасной Соколовой
зацветает пышная сирень.
Есть сирень такая - цвета крови,
ей самой мучительно цвести...
Тот, Кто волен был в своей любови,
вечно держит звезды наготове,
чтобы их на землю отрясти.
* * *
Ах, я не знаю - так ли живу, не так ли...
Небо глаза свои выплакало до капли.
В час, когда капля касается водной глади,
воздух мутится и кто-то подходит сзади.
- Что, - говорит, - по силам тебе твой опыт?
- Нет, - отвечаю, переходя на шепот.
Берег пологий теплым заносит илом.
- Жребий убогий - вот что тебе по силам.
Ты в непогоду укройся одеждой ветхой,
трогая воду тонкой ольховой веткой.
- Не понимаю я - боль это или благо -
видеть, как влаги другая коснется влага.
Если же будет листьями плакать ива,
кто нас осудит - осока, вода залива
или крапива, растущая при дороге?
- Как торопливы мысли твои о Боге
или о месте, где мир существует тварный...
Словно по жести поезд гремит товарный,
в поисках рая ангел рыдает падший,
с болью вдыхая запах травы увядшей.
* * *
В Лапландии печальной так легко
сказать, что снег похож на молоко,
что в небе волк встречается с медведем.
Давай, мой друг, в Лапландию поедем!
В Лапландии, как северный олень,
пугливо время. Год пройдет - и день
пройдет, как год. Там время растяжимо.
Лапландия есть следствие режима,
в котором бьется сердце. То с трудом
оно стучит, то в теле молодом
идет на паперть, точно нищий с шапкой,
и просит денег. К девственнице в дом
приходит время повивальной бабкой.
Она, младенца в чреве не застав,
с печальною улыбкой на устах
уходит прочь. Туда уходит время,
где в рыхлой почве умирает семя,
чтоб из земли в воздушную среду
попасть уже не семенем, а стеблем.
В Лапландии мы только раз в году
живые струны памяти колеблем.
В Лапландии несутся облака,
как всадники. Там правая рука
при жизни не советуется с левой,
а после смерти тенью на лице
становится. Ты заперт во дворце
наедине со Снежной королевой
из детской сказки. В ледяном дворце
алмазами посверкивают льдинки.
В Лапландии все женщины блондинки.
Поедем же в Лапландию, мой друг!
Там люди умирают молодыми.
Старуха-вечность космами седыми
трясет и сеет волосы вокруг.
И, выросши, как нежить, из волос,
какой-то мальчик, черен и раскос,
оброс, как стебель, деревянным платьем.
Он спит - как будто задает вопрос:
что радостью грозит и что - проклятьем?
* * *
Кто, упрятавший улитку в известковую кибитку,
смотрит в стынущую воду
и в иголку прячет нитку?
Кто, увидев свет бесплотный, серебристый дождь кислотный,
умирающим в угоду
в рай билет придумал льготный?
Покоряясь водам смутным, серебром сиюминутным
на мели играет рыба,
обернувшись шаром ртутным.
Тот, кто рыбьи кости гложет, умереть никак не может,
он уснуть не может, ибо
рыбы смерть его тревожит.
Засыпай, ребенок глупый, смерть свою рукой нащупай,
ничего вокруг не видит
тот, кто пользуется лупой.
Перед мертвым он не встанет, и живого не помянет,
и ребенка он обидит,
и душа его увянет.
А слепец глядит в окошко, и луна ему, как кошка,
лижет стынущие руки
в вечном холоде разлуки.
1992
* * *
Холодна вода проточная, на восток течет река,
появилась буква строчная на листе черновика.
Улеглась пыльца цветочная, износилась жизнь непрочная,
рифма просится неточная - не берет ее рука.
Что за слово произносится, оставляя соль во рту?
Скоро смерть твоя износится, канет камнем в пустоту.
Там источник света ложного - падший ангел Люцифер -
в центре мира невозможного разрушает пенье сфер.
Все исчезнет в пестром пламени, восходящем до небес,
войско ангелов на знамени нарисует букву "С".
Снова яблоко надкушено, плоть закрыта на замок,
но не может быть разрушено то, что в мире создал Бог.
Видишь - в язвах незалеченных яблонь темная листва?
На деревьях искалеченных спят лесные существа -
спит фита и дремлет ижица, ять ползет из-под руки,
по стволу большому движутся в жестких панцирях жуки.
Не хочу считать потери я, слушать плоти грозный рык:
дух нас предал, а материя превращается в язык,
прежней жизни средоточие там скрывается и тут,
и слова чернорабочие из земли сырой растут.
* * *
Щебечут птицы в облаках то на латыни, то на греческом,
и речь на разных языках в богатом городе купеческом
напоминает птичий гам, и с легким шелестом уносится
все к тем же белым облакам людской молвы разноголосица.
Где некогда могучий вяз ветвями шевелил поникшими,
там брошены обрывки фраз снующими, как рыбы, рикшами,
тугой мошной трясет купец, гремит цыганка кастаньетами,
и в сети пойманный скупец звенит фальшивыми монетами.
Ну что еще тебе сказать? Ко мне цыган хотел посвататься,
я научилась ускользать и в темных подворотнях прятаться.
А там усеяна, мой друг, земля банановыми шкурками
и раздается птичий звук войны воздушной греков с турками.
Их бой пьянит, как дикий мед. Я вспоминаю миф об Одине, -
Валхаллы скандинавский лед - здесь, на моей погибшей родине
китовый ус, китайский рис, базар, поющий и щебечущий,
и темно-желтый Танаис, на берег рыбьи шубы мечущий.
А птицы движутся на юг разноязыким человечеством -
и нет ни памяти, ни мук, и нет вины перед отечеством,
и нет ни дома позади, ни кладбища, ни поля бранного,
а только плач и боль в груди от звука низкого, гортанного...
ПАМЯТИ А. СОПРОВСКОГО
Льется свет с небес голубой рекой,
но придет зима с ледяной клюкой
и за все страданья твои, труды
напоит дорогим вином,
и затянется глаз молодой воды
навсегда ледяным бельмом.
Да, в разлуке жить тяжело зимой,
оттого и плачет ребенок мой,
и родиться хочет еще один,
вечность в сторону отложив.
Ты же, злого времени господин,
будешь счастлив, покуда жив.
Белый свет померк, и огонь погас,
в ледяной конюшне стоит Пегас,
кто бы дал бедняге мешок овса
и почистил скребком крыло?
Мне повсюду чудятся голоса:
снегом родину замело.
И летит Пегас об одном крыле,
человек лежит в ледяной земле,
и бредут к нему с четырех сторон
караваны из разных стран.
А в дому, который оставил он,
я никак не закрою кран.
Ну и что с того, что трещит мороз?
Ведь течет вода солонее слез
по заржавленным венам московских труб,
и ребенок хватает грудь.
Ты, закончив смерти тяжелый труд,
не забудь о нас, не забудь.
СТAHCbI
1
И тонкий звездный свет, и отблески костров
лишь тайные следы беззвучных катастроф,
которые - увы - уже случились с нами.
Прошел кислотный дождь, посевы град побил
и вырвался огонь гудящий из могил,
пугая соловья в его древесном храме.
2
Еще младенцы спят в пещерах женских тел,
но стал небесный свод уже горяч и бел:
не каждому дано решить загадку Сфинкса.
Что брошено в огонь, должно, как мир, сгореть,
кто призван к бытию - тот должен умереть.
Блажен, кто жизнь прожил и с этой мыслью свыкся.
3
Струится кровь земли сквозь корни темных трав.
Апостол и поэт, пастух и беглый раб
когда-то был мне брат, но он меня оставил.
И чувствую - теперь проходит сквозь меня
сияющий поток эфира и огня:
так грозный Савл ослеп, так встал прозревший Павел.
4
Так сделан тесный гроб из ивовой лозы,
и в нем плывет мертвец вдоль по реке Янцзы.
Что слышит он сквозь сон? Что в поле воют волки,
и хочется ему проснуться и вздохнуть,
и к берегу пристать, и тихо отряхнуть
приставшие к лицу сосновые иголки.
5
Так мимо желтых вод, пугая мелких рыб,
по выжженной траве проходит царь Эдип,
он плачет и молчит, молчит и дышит часто.
Он жив еще, но слеп, он пьян от страстных ласк,
а путь его в Аид - увы - не путь в Дамаск.
О, если бы жива осталась Иокаста!
6
И вот еще один: в волнениях мирских
он крепок, как скала в пустыне волн морских,
и все, что было мной, к нему, как вихрь, стремится.
Телесный свой состав смешав в земную твердь,
и я, как тот слепец, ощупываю смерть:
где нежный центр ее и где ее граница?
7
Смерть - это полый шар. И каждый, кто решал
Загадку бытия, тот сам себе мешал
живую воду пить, лежать в пыли горячей.
В зверином круге звезд я вижу двойника
и думаю - куда его влечет река
течением любви телесной и незрячей?
8
Который год уже за тенью я гонюсь.
Когда я в дом войду и хлебу поклонюсь,
ты не ответишь мне. В своей дали туманной
ты озабочен тем, что мед течет из сот.
А смерть или любовь - игра таких пустот,
что ты выходишь в сад, заросший валерьяной.
9
Где этот сад разбит? Чуть в стороне от Фив,
где царь Эдип бродил, где в месяце Авив
все небо в облаках, как потолок в побелке.
И проступают вдруг сырые пятна птиц,
а жизнь еще стоит на циферблатах лиц,
но кто, скажи мне, кто передвигает стрелки?
* * *
1
Что обрадует зренье? Узор ли извилистых линий -
птиц свободных паренье над сумрачной водной пустыней, -
или лиственный лес, наделенный способностью мыслить?
Не пугайся чудес, ибо их невозможно исчислить.
2
Что останется слуху? Листвы человеческий шелест -
зов иного пространства для рыбы, идущей на нерест,
или голос любви, отвечающий призракам грозным,
что молчит псалмопевец и хлебом питается слезным.
3
Что мы ставим на карту, с судьбой состязаясь сердитой?
Мы богиню Астарту упрямо зовем Афродитой.
Среди ветхих костей тает сердце, подобное воску,
от небесных властей получившее небо в полоску.
4
Мы уже понимаем, скитаясь под облачной сенью,
что предмет не умеет соперничать с собственной тенью,
что в измученном мире, где жизнью за слово платили,
царь Давид просыпается, трогая струны Псалтири.
5
Звук нагой и прекрасный в одежде из птичьего гама
поднимается вверх, словно сладостный дым фимиама,
а певец остается лежать на холодной постели,
и в груди его голос, как свежая рана на теле.
9 сентября 1997
ПОСЛЕДНИЙ ПСАЛОМ
1
На высоком месте растет ольха.
Я не знала, что участь моя горька,
что со мною рядом дрожит осина,
что единство места и горьких слез
есть единство времени. Ворох роз
до сих пор лежит на гробу Расина.
Спят в своих могилах Расин, Корнель,
спит Европа. В России метет метель,
на Марию молча глядит Иосиф.
Время, словно яблоко, ест Адам,
узнавая смерть по ее плодам,
а Расин с Корнелем, одежду сбросив,
то удой, то сетью, а то сачком
ловят рыб и бабочек. Я бочком
в щель протиснусь и стану за их ловитвой
наблюдать. Так рыба следит молчком
не за райским яблоком - за крючком
с червячком на нем. Не ложись ничком
и не плачь, а к Богу иди с молитвой.
2
Соблюдай единство любви и мест,
где была любовь.
Вот скамья, подъезд,
вот вода прозрачной трущобой, чащей,
диким садом стала для райских рыб.
Дал бы Бог им крылья - они смогли б
оросить язык мой, в огне горящий.
Бог дарует благо. Растет трава.
Вездесущий бес говорит слова,
он твердит свое, ты его не слушай.
Так в воздушных странствиях мотылек,
как дитя, лепечет, что путь далек.
На границе призрачной влаги с сушей
сеть свою раскинул морской рыбак,
и ему Корнель продает табак,
а в ольховых зарослях плачет птица.
Мы с тобой при встрече поговорим,
как живут Москва, и Стамбул, и Рим,
Вифлеем, Венеция, Бремен, Ницца.
Соловей российский семи кровей!
Снарядившись в путь, мы возьмем правей,
сложим в узел золото, ладан, смирну.
Мне свое с собой тяжело носить,
а тебе, мой друг, нелегко просить,
чтобы дал Господь нам кончину мирну.
3
Чтобы жизнь смогла превратиться в речь,
нам дается сила и право - течь,
как течет река и впадает в небо.
Море ль будет местом для наших встреч,
или встанет вдруг на дороге печь
с золотым, как меч, караваем хлеба
в огнедышащем чреве ее? Там червь
ненасытный
с виду похож на вервь
из пеньки. Ее ли свивал Иуда,
собираясь плоть, как зерно, смолоть?
Я в ночи молюсь: "Сбереги, Господь,
нас от мора, труса, от глада, блуда".
4
Есть такая мысль, что мы все волхвы,
что пространства с временем нет - увы, -
что вокруг тебя - вещество и сила.
Свет угасших звезд ты рукой лови.
Если это сила твоей любви,
то листвой не станет дрожать осина.
Позвоночник моря о камни скал
разбивает ветер. Что ты искал,
что нашел в изменчивом этом мире?
Посмотри - осот, чемерица, мак,
прозябая, Господа славят так,
как велит последняя песнь Псалтири.
ДВА РАЗГОВОРА О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
1
Это неба полотенце. Это речка. Это лес.
Это тихий плач младенца. Это ангел. Это бес.
Это вышиты на ткани солнце, звезды и луна.
Это жизнь моя на грани то ли смерти, то ли сна.
Волк, как ветер, завывает. Как луна, вода блестит.
Бог лицо от нас скрывает. Мать дитя свое растит.
Это травы зреют в поле, это зверь живет в неволе,
привыкая к новой роли, в небе бабочка гостит.
Ах, давно ль она дрожала, потому что червячком
на сырой земле лежала то ли навзничь, то ль ничком?
И имела вид наивный, и смеялась надо мной,
а теперь, как ангел дивный, держит крылья за спиной.
2
Это чистая тарелка. Это ложка. Это ложь.
Это страшно. Это мелко. (Слов во тьме не разберешь.)
Тьма закрыла свет, как штора. Ночь на улице шуршит.
Тонкой ниткой разговора воздух в комнате прошит.
Я ребенка пеленаю, тихо плачу и молчу.
Помнишь? Помню. Знаешь? Знаю. И заплатишь? Заплачу.
Чем заплатишь? Звездной пылью, молоко из чашки вылью.
За спиною пряча крылья, ангел дует на свечу.
Как спокойно и бесстрастно Бог пускает время в рост!
Безвоздушное пространство служит пищею для звезд.
Ночь - кормилица и нянька - с головой укрыла твердь.
Человек, как Ванька-встанька, погружен то в жизнь, то в смерть.
Я лицо росой умою, чтоб глаза мои закрыл
ангел с траурной каймою по краям лазурных крыл.
* * *
Ждут цветы в ароматном гареме,
чтобы нежное, сладкое бремя
тяготило их день ото дня.
Ночь есть ров, разрывающий время
и крадущий любовь у меня.
По бугристому небу бегущий,
ты, глухой и безжалостно лгущий,
проповедник, отшельник и вор,
не пророк - человек неимущий,
ты выносишь судьбе приговор.
Кровь ревнивая цвета рубина,
жизнь румяная, как Коломбина,
не обманут тебя, не спасут.
Только смерть никому не чужбина,
но отечество, совесть и суд.
* * *
В озере мелком резвятся уклейки,
ангелы мир поливают из лейки,
дырки в воде до размеров копейки
медной не могут никак дорасти.
Как на насесте, уселись на рейке
в клетке березовой две канарейки.
Головы их прикрепляются к шейке
так, словно птицы лепечут: "Прости".
Только нам птичий язык непонятен.
Нет на воде ни мозолей, ни вмятин -
после дождя ее лик аккуратен.
Длинное влажное тело реки
скачет по руслу, как лошади цугом,
так что идет голова ее кругом.
Рыбы пернатые смотрят с испугом,
как пролетают ворон старики
в небе высоком. В воздушной стихии
ангел, раскинувший крылья сухие,
хочет попробовать хлеба, ухи и
сладкого меда в коробочках сот.
Только хозяева меда и хлеба
видеть не могут ни ангела неба,
ни безнадежных провалов Эреба,
ни ослепительных райских высот.
В доме поет обезглавленный кочет,
словно сверчок, канарейка стрекочет,
хочет хозяин того иль не хочет -
жук выпивает древесную кровь
и умертвленное дерево точит...
Ходит хозяйка по дому, бормочет:
"Смерть, очевидно, растет, как морковь,
в каждом из нас, проявляя усердье,
корнем своим проникает в предсердье,
не оставляя надежд на бессмертье..."
Птица плывет или рыба летит,
слово ли смерть здесь звучит неуместно,
только становится небо небесно.
С кровью рифмуется что? Неизвестно.
В это ли слово нас Бог превратит?
* * *
Коптит фитиль забытой керосинки, худая Муха бьется о стекло.
Уснул младенец Моисей в корзинке, в Египте нынче сухо и тепло.
Возьми себе младенца вместо сына, открой глаза - и в пыльное окно
смотри, как долго льется из кувшина густое кахетинское вино.
И не забудь, уснув в своей постели, произнести невнятные слова:
Еще не все деревья облетели; еще не вся затоптана трава,
еще, как в детстве, в хижине убогой неведомого мастера рука
плетет тебе, как некий дар от Бога, не колыбель, а гроб из тростника.
* * *
Опять кирпичная стена увита диким виноградом.
Великолепная луна царит над опустевшим садом.
Покуда спит и плачет сад в сетях невыказанной муки,
зеленоглазый азиат берет плоды земные в руки.
А с черных бархатных небес глядит хвостатая комета,
как углубилась в звездный лес жена пророка Магомета.
Над лесом кружит воронье, рождая смутную тревогу.
Где муж ее? Где сын ее? Где верный путь, ведущий к Богу?
| Вернуться на главную страницу | Вернуться на страницу "Тексты и авторы" | Светлана Кекова |
| Copyright © 1999 Светлана Васильевна Кекова Публикация в Интернете © 1999 Союз молодых литераторов "Вавилон"; © 2006 Проект Арго E-mail: info@vavilon.ru |