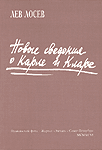
- Новые сведения о Карле и Кларе:
Третья книга стихов.
СПб.: Пушкинский фонд, Журнал "Звезда", 1996.
Серия "Автограф", [вып.12].
ISBN 5-85767-088-8
72 с.
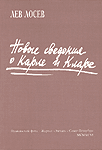 |
Третья книга стихов. СПб.: Пушкинский фонд, Журнал "Звезда", 1996. Серия "Автограф", [вып.12]. ISBN 5-85767-088-8 72 с. |
Памяти Юрия Леонидовича Михайлова
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАРЛЕ И КЛАРЕ
Кораллы
украв у Клары, скрылся, сбрив усы,
nach Osten. Что-то врал. Над ним смеялись.
Он русским продал шубу и часы
с кукушкой. Но часы тотчас сломались.
А в лиственных лесах дуплистых губ
не счесть, и нашептаться довелось им,
что обрусел немецкий лесоруб,
запил, запел, топор за печь забросил.
Кларнет
украв у Карла как-то смеху для,
она его тотчас куда-то дела,
но дева готская уберегла футляр,
его порою раскрывала дева.
Шли облака кудряво, кучево,
с востока наступая неуклонно,
но снег не шел, не шел, и ничего
не падало в коралловое лоно.
Mein Gott!
Вот густо-розовый какой коловорот,
скороговорок вороватый табор,
фольклорных оговорок a la Freud,
любви, разлуки, музыки, метафор!
СОНЕТ В САМОЛЕТЕ
Отдельный страх, помноженный на сто.
Ревут турбины. Нежно пахнет рвота.
Бог знает что... Уж Он-то знает, что
набито ночью в бочку самолета.
Места заполнены, как карточки лото,
и каждый пассажир похож на что-то,
вернее, ни на что – без коверкота
все как начинка собственных пальто.
Яко пророк провидех и писах,
явились знамения в небесах.
Пока мы баиньки в вонючем полумраке,
летают боинги, как мусорные баки,
и облака грызутся, как собаки
на свалке, где кругом страх, страх, страх, страх.
XVIII ВЕК
Восемнадцатый век, что свинья в парике.
Проплывает бардак золотой по реке,
а в атласной каюте Фелица
захотела пошевелиться.
Офицер, приглашенный для ловли блохи,
вдруг почуял, что силу теряют духи,
заглушавшие запахи тела,
завозилась мать, запыхтела.
Восемнадцатый век проплывает, проплыл,
лишь свои декорации кой-где забыл,
что разлезлись под натиском прущей
русской зелени дикорастущей.
Видны волглые избы, часовня, паром.
Все сработано грубо, простым топором.
Накорябан в тетради гусиным пером
стих занозистый, душу скребущий.
УНИЖЕНИЕ ГЕНИЯ
Вручи мне Ювеналов бич!
Пушкин
Над белой бумагой потея,
перо изгрызая на треть,
все мучаясь, как бы Фаддея
еще побольнее поддеть:
"Жена у тебя потаскушка,
и хуже ты даже жида..."
Фаддею и слушать-то скучно,
с Фаддея что с гуся вода.
Фаддей Венедиктыч Булгарин
съел гуся, что дивно изжарен,
засим накропал без затей
статью "О прекрасном" Фаддей,
на чижика в клеточке дунул,
в уборной слегка повонял,
а там заодно и обдумал
он твой некролог, Ювенал.
* * *
Или еще такой сюжет:
я есть, но в то же время нет,
здоровья нет и нет монет,
покоя нет и воли нет,
нет сердца – есть неровный стук
да эти шалости пером,
когда они накатят вдруг,
как на пустой квартал погром,
и, как еврейка казаку,
мозг отдается языку,
совокупленье этих двух
взвивает звуков легкий пух,
и бьются язычки огня
вокруг отсутствия меня.
ПОДРАЖАНИЕ
Как ты там смертника ни прихорашивай,
осенью он одинок.
Бьется на ленте солдатской оранжевой
жалкий его орденок.
За гимнастерку ее беззащитную
жалко осину в лесу.
Что-то чужую я струнку пощипываю,
что-то чужое несу.
Ах, подражание! Вы не припомните,
это откуда, с кого?
А отражение дерева в омуте –
тоже, считай, воровство?
А отражение есть подражание,
в мрак погруженье ветвей.
Так подражает осине дрожание
красной аорты моей.
ПАРИЖСКАЯ НОТА
Он вынул вино из портфеля,
наполнил стакан в тишине.
Над крышами башня Эйфеля
торчала в открытом окне.
Заката багровая кромка
кропила отлив жестяной.
"...vraiment çа finit trop mal", – громко
вдруг кто-то сказал за стеной.
Такая случайная фраза
в такие печальные дни
бросает на кухню, где газа
довольно – лишь кран крутани.
ИЗ СЕВЕРНОЙ АНГЛИИ
I
Что вдруг?
Где мои вилы? где вода?
Я омертвил бы буквой звук,
поскольку я всегда имел
желание увидеть мел
скал и такие города,
где люди в каменных домах,
взяв в руки ножик костяной,
читают в кожаных томах
в колонки сложенный петит,
меж тем как дождик, за стеной
лупцующий во весь размах,
стирает тот же алфавит
с крестов и плит.
II
Где англ дробил крестец
кувалдой меровингу,
застылый коровец
глядит на муравьинку,
у местного собеса
рабкласса колготня,
где с помощью огня
из ведьмы гнали беса.
Национальный цвет
английской алой розы,
и на него ответ
английской красной рожи
и водяного взгляда
под кепкой шерстяной
за каменной стеной,
где в виде снегопада
пятиударный ямб
прошелся по Вордсворту,
амбарам, воробьям,
ручью, водовороту;
фитиль давай крошиться
в вечернем огоньке,
и мальчик на одном коньке
пошел кружиться.
ИЗ МАРКА СТРЭНДА
1. На пустыре
Столь ржав в крапиве старый таз,
что ты зажмуриваешь глаз,
столь рыж.
Ты ежишься внутри плаща,
а с неба дождь ползет, луща
толь крыш
отсутствующих. Сквозь окно,
которого здесь нет давно,
узрим
прямоугольное пятно
там, где висело полотно
"Гольфстрим".
Там шлюпки вздыблена корма,
там двум матросам задарма
конец.
И, если глаз не поднимать,
увидишь: обнимает мать
отец.
Вот он махнул тебе рукой
пустой, неясной, никакой.
Притырь
сворованный у смерти миг.
Дождь капает за воротник.
Пустырь.
2. Один день
В дверях он долго шаркает нейлоном
и замечает равнодушным тоном,
что подмораживать как будто начало.
Она, управившись с посудой, подметает,
при этом кажется ей, что припоминает
жизнь, но всегда к полудню понимает,
что вспоминать-то в общем нечего.
Он отпирает лавку ровно в девять.
Давно привыкший ничего не делать,
он в 5.15 дома, как всегда.
Они жуют на ужин бутерброды,
ТВ вещает им прогноз погоды,
прогноз им обещает холода.
Потом пройтись по своему безлюдью,
на встречный ветер опираясь грудью,
они идут, подняв воротники.
А ветер трудится, как прачка над лоханью,
рвет прямо с губ клубочки их дыханья
и прочь уносит, в сторону реки.
3. По белому
Вот лежит белый снег,
белый снег принимая.
Вот идет человек,
белый снег приминая.
Взглядом по небесам
он скользит опустелым,
по прозрачным лесам,
по пустынным пробелам.
Под сугробы легли
бездыханные шлюпки.
Октаэдры легки,
шестигранники хрупки.
Вот идет человек,
белым облачком дышит,
видит он белый снег,
снега паданье слышит,
видит цепи озер
леденелые звенья
и как бел кругозор
за пределами зренья.
В звукосмысловом отношении современная поэзия на английском языке настолько отличается от русской, что я не вижу возможности точного перевода. Так что за этот мой отклик на его замечательные стихи Марк Стрэнд, поэт-лауреат США 1990 года, никакой ответственности не несет. |
САД ПНЕЙ
Обглоданный скелет матроса
обрушен как-то криво, косо,
лет пятьдесят
он в этом трюме пребывает,
в глазницы рыбки проплывают
и вверх глядят.
Фильтруется говно в лагуну,
гниет луна над Гонолулу,
столбы огня
и крови, что здесь вверх летели,
застыли, превратясь в отели,
стоят стоймя.
В доходных этих обелисках,
в их блестках, плесках, брызгах, визгах
жрут, пьют, орут,
там ягодицы смуглых девок
вращаются, там много денег
за все берут.
Черна меж двух столбов промежность
(уж не в такую ли кромешность
шли на таран?).
Там пахнет рыбным рестораном,
и правда, в этом месте странном
есть ресторан.
Японец лапками сухими
формует суши и сашими,
он нас умней,
он капиталец свой утроил,
а для гостей своих устроил
сад пней.
Пни обгорелые на сером
песке стоят таким манером,
что каждый пень
бросает тень тоски, терпенья,
тень тектонического пенья
в последний день.
Ужасный день! И смерть, и слава!
Текла и оплывала лава,
потом сошла.
Она текла и оплывала,
но что-то лава оставляла,
не все сожгла.
То, что не удалось расплавить
и сжечь, мы называем – память.
Присядь, взгляни
без слез, но также без усмешки,
взгляни на эти головешки,
на эти пни.
Уж так заведено под солнцем –
победа нам, а жизнь японцам.
Они живут.
В свою японскую улыбку
они суют сырую рыбку,
засим жуют.
18-20 СЕНТЯБРЯ 1989 ГОДА
В немецком мерзком поезде я ночь провел без сна,
но был утешен тишиной пустого ресторана
в Остенде. Через два часа из синего тумана
потихоньку стала вылезать любезная белизна.
И, не оглянувшись назад, где гальциона вьется,
на берег Альбиона я ступил опять *.
(Живи, как пишешь, говоришь? Но что-то не живется,
а если что и пишется – так, на память записать.)
Заботливый Мак-Миллин нас созвал со всех сторон,
Там были добрый Джерри Смит, дотошный Мартин Дьюхирст,
наш милый Джулиан и др., но все же темы тухлость –
"Россия и Запад" – задала какой-то вялый тон.
Слависты подолгу пили чай с молоком и не без подсластки
перетолков о том, о сем. "А здесь ли Э.Лимонов?"
"Увы, Лимонов прибыть не мог". "А который Аксенов?"
"Вон тот, у которого торчит роман из кожаной пидараски".
Скучали в зале кто как мог слависты всех широт.
М.Розанова сладкий яд привычно расточала.
Но все оживились, когда вдруг Г.Белая застучала
на Солженицына, да так, что я аж рот
разинул **. А разинувши, как говорится, дал отпор
(уж больно было совестно, хоть и "прожженный циник").
Мне одобрительно мигал сидевший сбоку Зиник.
А, может, он просто так мигал – не знаю до сих пор.
Из Блумсбери я шел пешком. Меня несла толпа гуляк.
Лежал мертвец на мостовой – зонт, пиджак, портфель, очки.
Вдоль банков панки – трех полов раскрашенные феечки.
Ввepx по Темзе пер прилив с натугой, как бурлак.
Прилив тащил закат, мазут и дохлую плотву.
Он двигал реку, как строку, т.е. слева направо.
Пиши, говоришь, как живешь? Вот и пишу коряво.
Живи, как пишешь, говоришь? Вот и живу.
ДЖЕНТРИФИКАЦИЯ
Светлане Ельницкой
Река валяет дурака
и бьет баклуши.
Электростанция разрушена. Река
грохочет вроде ткацкого станка,
чуть-чуть поглуше.
Огромная квартира. Виден
сквозь бывшее фабричное окно
осенний парк, реки бурливый сбитень,
а далее кирпично и красно
от сукновален и шерстобитен.
Здесь прежде шерсть прялась,
сукно валялось,
река впрягалась в дело, распрямясь,
прибавочная стоимость бралась
и прибавлялась.
Она накоплена. Пора иметь
дуб выскобленный, кирпич оттертый,
стекло отмытое, надраенную медь,
и слушать музыку, и чувствовать аортой,
что скоро смерть.
Как только нас тоска последняя прошьет,
век девятнадцатый вернется
и реку вновь впряжет,
закат окно фабричное прожжет,
и на щеках рабочего народца
взойдет заря туберкулеза,
и заскулит ошпаренный щенок,
и запоют станки многоголосо,
и заснует челнок,
и застучат колеса.
ЗАПИСКИ ТЕАТРАЛА
Я помню: в попурри из старых драм,
производя ужасный тарарам,
по сцене прыгал Папазян Ваграм,
летели брызги, хрип, вставные зубы.
Я помню: в тесном зале МВД
стоял великий Юрьев в позе де
Позы по пояс в смерти, как в воде,
и плакали в партере мужелюбы.
За выслугою лет, ей-ей, простишь
любую пошлость. Превратясь в пастиш,
сюжет, глядишь, уже не так бесстыж,
и сентимент приобретает цену.
...Для вящей драматичности конца
в подсветку подбавлялась зеленца,
и в роли разнесчастного отца
Амвросий Бучма выходил на сцену.
Я тщился в горле проглотить комок,
и не один платок вокруг намок.
А собственно, что Бучма сделать мог –
зал потрясти метаньем оголтелым?
исторгнуть вой? задергать головой?
или, напротив, стыть, как неживой,
нас поражая маской меловой?
Нет, ничего он этого не делал.
Он обернулся к публике спиной,
и зал вдруг поперхнулся тишиной,
и было только видно, как одной
лопаткой чуть подрагивает Бучма.
И на минуту обмирал народ.
Ах, принимая душу в оборот,
нас силой суггестивности берет
минимализм, коль говорить научно.
Всем, кто там был, не позабыть никак
потертый фрак, зеленоватый мрак
и как он вдруг напрягся и обмяк,
и серые кудельки вроде пакли.
Но бес театра мне сумел шепнуть,
что надо расстараться как-нибудь
из-за кулис хотя б разок взглянуть
на сей трагический момент в спектакле.
С меня бутылку взял хохол-помреж,
провел меня, шепнув: "Ну, ты помрэшь", –
за сцену. Я застал кулис промеж
всю труппу – от кассира до гримера.
И вот мы слышим – замирает зал –
Амвросий залу спину показал,
а нам лицо. И губы облизал.
Скосил глаза. И тут пошла умора!
В то время как, трагически черна,
гипнотизировала зал спина
и в зале трепетала тишина,
он для своих коронный номер выдал:
закатывал глаза, пыхтел, вздыхал,
и даже ухом, кажется, махал,
и быстро в губы языком пихал –
я ничего похабнее не видел.
И страшно было видеть, и смешно
на фоне зала эту рожу, но
за этой рожей, вроде Мажино,
должна быть линия – меж нею и затылком.
Но не видать ни линии, ни шва.
И вряд ли в туше есть душа жива.
Я разлюбил театр и едва
ли не себя в своем усердье пылком.
Нет, мне не жаль теперь, что было жаль
мне старика, что гений – это шваль.
Я не Крылов, мне не нужна мораль.
Я думаю, что думать можно всяко
о мастерах искусств и в их числе
актерах. Их ужасном ремесле.
Их тренировке. О добре и зле.
О нравственности. О природе знака.
30 ЯНВАРЯ 1956 ГОДА
(У Пастернака)
Все, что я помню за этой длиной,
очерк внезапный фигуры ледащей,
голос гудящий, как почерк летящий,
голос гудящий, день ледяной,
голос гудящий, как ветер, что мачт
чуть не ломает на чудной картине,
где громоздится льдина на льдине,
волны толкаются в тучи и мчат,
голос гудящий был близнецом
этой любимой картины печатной,
где над трехтрубником стелется чадный
дым и рассеивается перед концом;
то ль навсегда он себя погрузил
в бездну, то ль вынырнет, в скалы не врежась,
так в разговоре мелькали норвежец,
бедный воронежец, нежный грузин;
голос гудел и грозил распаять
клапаны смысла и связи расплавить;
что там моя полудетская память!
где там запомнить! как там понять!
Все, что я помню, – день ледяной,
голос, звучащий на грани рыданий,
рой оправданий, преданий, страданий,
день, меня смявший и сделавший мной.
ИОСИФ БРОДСКИЙ,
или ОДА НА 1957 ГОД
Хотелось бы поесть борща
и что-то сделать сообща:
пойти на улицу с плакатом,
напиться, подписать протест,
уехать прочь из этих мест
и дверью хлопнуть. Да куда там.
Не то что держат взаперти,
а просто некуда идти:
в кино ремонт, а в бане были.
На перекресток – обонять
бензин, болтаться, обгонять
толпу, себя, автомобили.
Фонарь трясется на столбе,
двоит, троит друзей в толпе:
тот – лирик в форме заявлений,
тот – мастер петь обиняком,
а тот – гуляет бедняком,
подъяв кулак, что твой Евгений.
Родимых улиц шумный крест
венчают храмы этих мест.
Два – в память воинских событий.
Что моряков, что пушкарей,
чугунных пушек, якорей,
мечей, цепей, кровопролитий!
А третий, главный, храм, увы,
златой лишился головы,
зато одет в гранитный китель.
Там в окнах никогда не спят,
и тех, кто нынче там распят,
не посещает небожитель.
"Голым-гола ночная мгла".
Толпа к собору притекла,
и ночь, с востока начиная,
задергала колокола,
и от своих свечей зажгла
сердца мистерия ночная.
Дохлебан борщ, а каша не
доедена, но уж кашне
мать поправляет на подростке.
Свистит мильтон. Звонит звонарь.
Но главное – шумит словарь,
словарь шумит на перекрестке.
душа крест человек чело
век вещь пространство ничего
сад воздух время море рыба
чернила пыль пол потолок
бумага мышь мысль мотылек
снег мрамор дерево спасибо
NEWS
1
Рейхнулась Германия с рильке в пуху –
nach Osten, nach Westen und nach... who is who –
уже ничего не понятно –
какие-то звуки и пятна.
Кто скачет над бывшей берлинской стеной?
Ездок запоздалый, с ним сын костяной.
Костюмчики в виде матраса
им выдала высшая раса.
И йодль, и дудль поют голоса –
так призрак свободы потряс их,
и наши аж дыбом встают волоса
в просторных немецких матрасах.
2
Распахнулся помойной яминой
Ленин-Сталин-и т.д.-град,
где с Серебряным веком Каменный
расправлялся полвека подряд.
Нечто толстое, круглое тужится
и выдавливает: "Русофоб!"
Все, что может разрушиться, рушится.
Лампы тушатся. Мать вашу об
топор, студентом украденный,
об копье. Но копье дрожит.
Святой Юрий не справился с гадиной,
и шипит ему гадина: "Жид".
3
Художница Ордаряну говорит, что в последние годы становилось все труднее достать масляные краски, совсем не было белил. The New York Times, 31 December 1989 |
Как всякий старый сталинист,
был Чаушеску зол и туп.
Хлестнул его свинцовый хлыст
и превратил в холодный труп.
От пули цвет лица свинцов,
в крови его каракульча,
и, как всегда у мертвецов,
течет из брючины моча.
На ошалелый Бухарест
валом валит свободный снег,
и белым белит все окрест,
идя к концу, двадцатый век.
"ВСЁ ВПЕРЕДИ"
Сексологи пошли по Руси, сексологи!
В.Белов
Где прежде бродили по тропам сексоты,
сексолог, сексолог идет!
Он в самые сладкие русские соты
залезет и вылижет мед.
В избе неприютно, на улице грязно,
подохли в пруду караси,
все бабы сбесились – желают оргазма,
а где его взять на Руси!
РУССКАЯ НОЧЬ
Пахота похоти. Молотьба
страсти. Шабаш. Перекур на подушке.
Физиология – это вроде ловушки.
"Да, а география – это судьба".
Разлиплись. Теперь заработало время,
чтобы из семени вывелось бремя,
чтобы втемяшилось в новое племя:
пламя на знамени и – в стремена!
Так извергается ночью истомной,
темной страстью, никчемной домной,
дымным дыханьем моя страна,
место пустое за соломянем *.
То-то я нынче, словоломаньем
словно пустою посудой гремя,
ее волочу за собой, как вину мою,
в свое неминуемое неименуемое.
Сыне Божий, помилуй мя.
* Соломя – овраг (см. мою работу "Между шеломянем и Соломоном: к вопросу о связи между Задонщиной и Словом о полку Игореве", Russian Language Journal, No. 115 [1979], рр.51-53). |
ВАРИАЦИИ ДЛЯ БОЯНА
Происходит в перистом небе погром, на пух облаков проливается кровь заката. Горько! Выносят сорочку с кровавым пятном – выдали белую деву за гада. Эх, Русская земля, ты уже за бугром. Помнишь ли землю за русским бугром? О, Русская земля, ты уже за бугром! |
ЗАБЫТЫЕ ДЕРЕВНИ
В российских чащобах им нету числа,
все только пути не найдем –
мосты обвалились, метель занесла,
тропу завалил бурелом.
Там пашут в апреле, там в августе жнут,
там в шапке не сядут за стол,
спокойно второго пришествия ждут,
поклонятся, кто б ни пришел –
урядник на тройке, архангел с трубой,
прохожий в немецком пальто.
Там лечат болезни водой и травой.
Там не помирает никто.
Их на зиму в сон погружает Господь,
в снега укрывает до стрех –
ни прорубь поправить, ни дров поколоть,
ни санок, ни игр, ни потех.
Покой на полатях вкушают тела,
а души веселые сны.
В овчинах запуталось столько тепла,
что хватит до самой весны.
ВЫСОЦКИЙ ПОЕТ ОТТУДА
Справа крякает рессора, слева скрипит дверца,
как-то не так мотор стучит (недавно починял).
Тяжелеет голова, болит у меня сердце,
кто эту песню сочинил, не знал, чего сочинял.
Эх, не надо было мне вчера открывать бутылку,
не тянуло бы сейчас под левою рукой.
А то вот я задумался, пропустил развилку,
все поехали по верхней, а я по другой.
А другая вымощена грубыми камнями,
не заметил, как очутился в сумрачном лесу.
Все деревья об меня спотыкаются корнями,
удивляются деревья – чего это я несу.
Удивляются дубы – что за околесица,
сколько можно то же самое, то же самое долбить.
А березы говорят: пройдет, перебесится,
просто сразу не привыкнешь мертвым быть.
ЗВУК НАЧАЛА ЗИМЫ
1
В такую пору не езда.
Ну впрямь как будто навсегда
застыла, одолев подъем,
моя усталая "Мазда"
пред красным фонарем.
И лед кровав, и снег кровав.
Рвануть? Да нет, лишишься прав.
...А все же Пушкин прав,
что в общем хорошо зимой –
ни пыли нет, ни вони нет,
ни комаров, ни мух нет...
Но к черту! мне пора домой,
а красный свет, а красный свет, а красный свет
не тухнет.
2
Уж не тень заката,
а от тени тень
увела куда-то
стылый этот день.
Краденый у Фета
нежный сей товар
втоптан, как конфета,
в снежный тротуар.
Что-то мне все мстится
за моим мостом –
слово или птица
в воздухе пустом.
Словно кто нестойкий,
русский кто-нибудь
хочет синей сойкой
в воздухе мелькнуть.
3. Bushmills *
Ирландской песенки мотив
сидит, колени обхватив,
покачивается перед огнем
и говорит: что ж, помянем?
Ирландской песенки мотив,
все позабыв, все позабыв,
кроме двух-трех начальных нот,
мне золота в стакан плеснет.
Кроме двух-трех начальных нот
и черного бревна в огне,
никто со мной не помянет
того, что умерло во мне.
А чем прикажешь поминать –
молчаньем русских аонид?
А как прикажешь понимать,
что страшно трубку поднимать,
а телефон звонит.
* Марка высококачественного ирландского виски.
ПЕС
Поскольку пес устройством прост:
болтаются язык да хвост,
сравню себя
я с этой шерстью небольшой,
с пованивающей паршой.
Скуля, сипя,
мой мокрый орган без костей
для перемолки новостей,
валяй, мели!
Обрубок страха и тоски,
служи за черствые куски,
виляй, моли!
* * *
Воскресенье. Тепло. Кисея занавески полна
восклицаньями грузчика, кои благопристойны и кратки,
мягким стуком хлебных лотков, т.е. тем, что и есть тишина.
Спит жена. Ей деревья снятся и грядки.
Бесконечно начало вовлечения в эту игру
листьев, запаха хлеба, занавески кисейной,
солнца, синего утра, когда я умру,
воскресенья.
ПО ДОРОГЕ
В какой ты завел меня лес?
Какую траву подминаю?
"Ты веришь, что Лазарь воскрес?"
"Я верю, но не понимаю..."
"Что ж, после поймешь".
"Отольешь, уж если того конвоира
цитировать *. Все это ложь".
"Ты веришь, что дочь Иаира
воскресла, и дали ей есть,
и, вставши, поела девица?
В благую ты веруешь весть?"
"Не знаю, все как-то двоится..."
В ответах тоскливый сквозняк,
но розовый воздух в вопросах.
Цветет вопросительный знак,
изогнут, как странничий посох.
ЮБИЛЕЙНОЕ
О, как хороша графоманная
поэзия слов граммофонная:
"Поедем на лодке кататься..."
В пролетке, расшлепывать грязь!
И слушать стихи святотатца,
пугаясь и в мыслях крестясь.
Сам под потолок, недотрога,
он трогает, рифмой звеня,
игрушечным ножиком Бога,
испуганным взглядом меня.
Могучий борец с канарейкой,
приласканный нежной еврейкой,
затравленный Временем-Вием,
катает шары и острит.
Ему только кажется кием
нацеленный на смерть бушприт.
Кораблик из старой газеты
дымит папиросной трубой.
Поедем в "Собаку", поэты,
возьмем бедолагу с собой.
Закутанный в кофточку желтую,
он рябчика тушку тяжелую,
знаток сладковатого мяса,
волочит в трагический рот.
Отрежьте ему ананаса
за то, что он скоро умрет.
В БЕЛОЙ КОМНАТЕ
Дюма, слегка сойдя с ума,
мог написать такой роман:
"Пятнадцать лет спустя,
или Книга, исчезающая по мере чтения".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чтоб эту книгу сочинить,
недолго бился беллетрист.
Чуть-чуть в начале зачернить
пришлось бумаги белой лист,
но стал светлее белый свет,
когда сломался карандаш,
когда сюжет сошел на нет,
когда рассеялся пейзаж –
деревья, домик за горой –
а в эпилоге и герой.
Пустынен эпилог,
как койка с белой простыней
под побеленною стеной,
как белый потолок.
В АЛЬБОМ О.
Про любовь мне сладкий голос пел...
Лермонтов
То ль звезда со звездой разговор держала,
то ль в асфальте кварцит норовил блеснуть...
Вижу, в розовой рубашке вышел Окуджава.
На дорогу. Один. На кремнистый путь.
Тут бы романсам расцветать, рокотать балладам,
но торжественных и чудных мы не слышим нот.
Удивляется народ: что это с Булатом?
Не играет ни на чем, песен не поет.
Тишина бредет за ним по холмам Вермонта
и прекрасная жена, тень от тишины...
Белопарусный корабль выйдет из ремонта,
снова будут паруса музыкой полны.
Отблеск шума земли, отголосок света,
ходит-бродит один в тихой темноте.
Отражается луна в лысине поэта.
Отзывается струна неизвестно где.
ГИДРОФОЙЛ
Не на галере, не в трюме мышином,
он задышал в отделенье машинном,
новых элегий коленчатый лад.
Прополоскав себе горло моэтом,
на пироскаф поспешим за поэтом.
Стих заработал. Парус подъят.
Вижу матроску, тельняшку, полоски.
Кушнер – ку-ку! И ку-ку, Кублановский!
Много ль осталось нам на веку?
Якорь надежды. Отчаянья пушки.
Чаек до черта, да нету кукушки.
Это ль ответ на вопрос: ни ку-ку.
Это ли нам завещал Боратынский –
даром растрачивать стих богатырский
на обмиранье, страх в животе?
В русском народе давно есть идейка:
жизнь-де копейка, судьба-де индейка.
Петь – так хотя бы о той же воде.
Вижу: волна на волну набежала.
Смерть это, что ли? Но где ж ее жало?
Жала не вижу. В воду плюю.
Вижу я синие дали Тосканы
и по-воронежски водку в стаканы
лью, выпиваю, сызнова лью.
Я, как и все, поклоняюсь Голгофе,
только вот бескофеиновый кофе
с сахаром веры, знать, не по мне.
Рай ли вдали, юнгианское ль море,
я исчезает в этом растворе –
буква в поэме, нитка в рядне.
Что там маячит? Палаческий Лисий
Нос или плачущий светлый элизий,
милые тени – друга, отца?
Что-то подходит к концу, это точно.
Что-то, за чем начинается то, что
Бог начинает с конца.
БРАЙТОН-БИЧ
Но всё, о море! всё ничтожно
Пред жалобой твоей ночной...
Вяземский
трогал писю трогал кака
наказали плакал что больше не будет
подарили книгу "Сын полка"
когда вырастет пионэром будет
Дважды прочитал "Хуторок в степи"
("Сын полка" отправлен на полку).
Подглядел, как девочки делают пипи,
и это надолго сбивает с толку.
Позади "Детские годы Ильича",
впереди праздник "Встреча весны".
Уже не волнуют фекалии и моча,
но поразительные картинки из "Справочника врача"
превращаются в сны.
Узнал, что "пидараст"
не ругательство, а физрук Абдула.
Сказала, что умрет, но не даст
поцелуя без любви.
Но дала.
И так далее. Институт. На картошке
спальные мешки, свальные грешки.
Инженер. Муж. Детские горшки.
До пятницы занимание трешки.
По вечерам водка и ТВ, ТВ:
грязноармеец громит беглогвардейца.
Самиздат, тамиздат и т.д., и т.п.
И когда уже не на что больше надеяться,
заходит друг, говорит: "Ну, елки-
палки, чего нам терять, опричь
запчастей".
И вот он в Нью-Йорке.
Нью-Йорк называется Брайтон-Бич.
Над ним надземки марсианская ржа.
В воздухе валяются неряшливые птицы.
Под досками прибой пошевеливает, шурша,
презервативы, тампоны, газеты, шприцы.
ПЕСНЯ ДЕСАНТНОГО ПОЛКА
Кончаюсь в зверских горах в шоке, крови, тоске,
под матюги санитаров и перебранку раций.
Сладко, как шоколадка, и почетно, как на доске,
умереть за отчизну, говорит Гораций.
Здесь, за зверским хребтом, мне перебили хребет,
плюс полостное ранение, но это я не заметил.
Мне в ухо хрипит по-русски отчизна, которой нет:
дескать, держись, и Высоцкого, и новости, и хеви метал.
Кончаюсь в зверских горах. Звери друг дружку рвут,
у не своих щенят внутренности выедают.
Я кончился, но по инерции: "Вот-вот, – рации врут, –
вот-вот вертолеты вылетают".
ВЕТХАЯ ОСЕНЬ
Отросток Авраама, Исаака и Иакова
осенью всматривается во всякий куст.
Только не из всякого Б-г глядит и не на всякого:
вот и слышится лишь шелест, треск, хруст.
Конь ли в ольшанике аль медведь в малиннике?
Шорох полоза? Стрекот беличий? Крик ворон?
Или аленький, серенький, в общем маленький, но длинненький
пришепетывает в фаллический микрофон?
Осень. Обсыпается знаковость, а заповедь
оголяется. С перекрестка душа пошла вразброд:
направо Авраамович, назад Исаакович,
налево Иаковлевич, а я – вперед.
БЕЗ НАЗВАНИЯ
Родной мой город безымян,
всегда висит над ним туман
в цвет молока снято́го.
Назвать стесняются уста
трижды предавшего Христа
и все-таки святого.
Как называется страна?
Дались вам эти имена!
Я из страны, товарищ,
где нет дорог, ведущих в Рим,
где в небе дым нерастворим
и где снежок нетающ.
СМЕРТЬ ДРУГА
Мой стих искал тебя...
Вяземский
Не гладкие четки, не писаный лик,
хватает на сердце зарубок.
Весь век свой под Богом ты был как бы бык.
Век краток. Бог крепок. Бык хрупок.
В шампанской стране меня слух поджидал.
Вот где диалог наш надломан:
то Вяземский ввяжется, то Мандельштам,
то глупый "смерть–Реймс" палиндромон.
"Что ж делать – Бог лучших берет", – говорят.
Берет? Как письмо иль монету?
То сильный, то слабый, ты был мне как брат.
Бог милостив. Брата вот нету.
Девятый уж день по тебе я молчу,
молюсь, чтоб тебя не забыли,
светящейся Розе, цветному Лучу,
крутящейся солнечной пыли.
12-18 сентября 1990 года, Эперне – Париж
* * *
Смутное время. Повесть временных тел.
Васнецов опознает бойцов по разбросанным шмоткам.
Глаз, этот орган мозга, последнее, что разглядел,
нацеленный клюв с присохшим кровавым ошметком.
Едет на белом коне Истребитель, он базуку снимает с рамен.
Шороху он наведет в генетическом фонде.
Он поработал уже на восточном фронте.
Теперь на западном жди перемен.
* * *
Повстречался мне философ
в круговерти бытия.
Он спросил меня: "Вы – Лосев?"
Я ответил, что я я.
И тотчас засомневался:
я ли я или не я.
А философ рассмеялся,
разлагаясь и гния.
ИТАЛЬЯНСКИЕ СТИХИ
Палаццо Те
Однажды кто-то из Гонзаг
построил в Мантуе палаццо,
чтоб с герцогиней баловаться
и просто так – как власти знак.
Художник был в расцвете сил,
умея много, много смея,
он в виде человекозмея
заказчика изобразил.
Весь в бирюзово-золотом,
прильнувши к герцогини устью,
с торжественностью и грустью
драконогерцог бьет хвостом.
Окрашивает корабли,
и небо, и прибой на чреслах
сок виноградников окрестных,
напоминающий шабли.
Что ей в туристе-дурачке?
Не отпускает эта фреска
мой взгляд, натянутый, как леска,
меня, как рыбу на крючке.
Равенна
Под австрийскими стенами крепости
реквием тростника
памяти старого ребусника,
пакостника, крепостника.
Далее – марево желтое,
море цвета гангрены
и довольно тяжелая
индустрия Равенны.
ЛЭПы, шоссе, ирригация,
газо- и нефтепровод.
Цивилизация-гадина
воет, гудит, ревет.
Словно мусор валяется
порт на краю равнины,
и турист растворяется
в толпах местной рванины.
Дар живописца, прозаика
в длинном движенье мазка.
Другое дело – мозаика,
к куску приставленье куска.
Бормотать что получится
на стекловидной фене –
вот чему учат мученицы
в Равенне –
Евфимия, Пелагея, Екатерина, Агнесса,
Евлалия, Цецилия, Люция, Кристина,
Валерия
плюс перед каждым именем
св., св., св., св., св., св...
Твердокаменным пламенем
светятся лики все,
на изумрудном облаке
ангел сидит здоровенный.
В византийском обмороке
мы расстаемся с Равенной.
Иския
Я помню, жил на свете человек,
пока не умер от туберкулеза,
который, помню, гордо заявлял
по пьянке, что он насекомоложец.
Имея инвалидность первой группы,
поймаю муху, крылья оторву,
с утра, когда соседи на работе,
наполню ванну, сяду, чтоб торчал
из пены признак моего еврейства,
и муху аккуратно посажу –
поползай, милая, не улетишь без крыльев!
Пуститься в плаванье? но океан горяч,
не доплывешь до белых берегов;
остаться здесь? но остров вулканичен
и близко, близко, близко изверженье...
(Еще я помню, как-то раз в гостях
у всех пропала мелочь из пальто;
он был оставлен в сильном подозренье.)
А больше ничего о нем не помню.
Хотя я рылся в памяти три дня,
бродя по пляжу, сидя на балконе,
расфокусированный взгляд переводя
с Неаполя правее, на Везувий,
когда я в прошлый раз боялся смерти
и жил на Искии, курортном островке.
НА СМЕРТЬ Б. Ф. СЕМЕНОВА
Завернули в холсты,
и торчат из цветочной кучки
заострившиеся черты
остряка-самоучки.
Где ты там, отзовись,
петроградско-израильский житель,
старый ангел мой, атеист,
друг, читатель, хвалитель,
обучивший меня
по пивным козырять, раскошелясь,
выше звуков Моцарта ценя,
шорох, шарканье, шелест
по граниту подошв,
пузырей в толстокружечной пене,
макинтошей и кепок о дождь,
невских волн о ступени,
в сорок пятом небес
о цветные салютные залпы,
как бы ты не сказал и как без
тебя я не сказал бы.
Пусть кладбищенский счет
в шекелях шелестит по холстине,
потому что чему же еще
шелестеть в Палестине?
НЕТ
Вы русский? Нет, я вирус СПИДа,
как чашка жизнь моя разбита,
я пьянь на выходных ролях,
я просто вырос в тех краях.
Вы Лосев? Нет, скорее Лифшиц,
мудак, влюблявшийся в отличниц,
в очаровательных зануд
с чернильным пятнышком вот тут.
Вы человек? Нет, я осколок,
голландской печки черепок –
запруда, мельница, проселок...
а что там дальше, знает Бог.
ИЗ ВЕРГИЛИЯ
...что стих мой бедноват,
а вот владей я эолийским ладом,
и я бы мог сказать: "Он уходил,
как выигравший дело адвокат,
когда, похлопав по плечу клиента,
он отбывает в синий рай Кампаньи"
(или зеленый рай Зеленогорска).
Как внятно в захолустной тишине
звучит под осень музыка ухода!
Как преломляет малость коньяка
на дне стакана падающий косо
закатный луч, который золотит
страницу, где последняя строка
оборвана на знаке переноса...
ПАРИЖ, 1941
По реке плывет корзинка, из нее звучит "Уа!".
Тень невидимого Бога накрывает храм Изиды.
Дойстойевский ищет Бога вместе с графом Толстуа.
Чек вручен с аплодисманом, Митя с Зиной будут сыты.
По реке трясутся волны, мельче старческого пульса.
Мокнут буквы МЕРЕЙКОВСКИЙ – волны волокут афишку.
Левый берег усмехнулся, сигаретой затянулся.
Правый берег улыбнулся, кашлянул, чтоб скрыть отрыжку.
Задери-подол-Маринка не дает покоя Зинке.
От эрзац-сигар немецких чахнет Зинкино двуснастье.
Старый мальчик круглопопый подает поэту зонтик.
Чешется. В Париже дождик. Над Европою ненастье.
По реке плывет корзинка, та корзиночка пуста.
В захолустном польском небе смрадно виснут дыма клубы.
Тщетно ищет человека Бог из глубины куста.
В старости все декаденты непременно злы и глупы.
СОНАТИНА БЕЗУМИЯ
1. Allegro: Ленинград, 1952
Иван Петрович спал как бревно.
Бодрый встал поутру.
Во сне он видел вшей и говно,
что, как известно, к добру.
Он крепко щеткой надраил резцы.
В жестянке встряхнул порошок.
Он приложил к порезам квасцы,
т.е. кровянку прижег.
Он шмякнул на сковородку шпек,
откинув со лба вихор.
"Русский с китайцем братья навек", –
заверил его хор.
Иван Петрович подпел: "Много в ней
лесов, полей и рек".
Он в зеркале зубы подстриг ровней
и сделал рукой кукарек.
Он в трамвае всем показал проездной
и пропуск вохре в проходной.
Он вспомнил, что в отпуск поедет весной
и заедет к одной.
Браковщица Нина сказала: "Привет!"
Подсобница Лина: "Салют!"
Низмаев буркнул: "Зайдешь в обед".
Иван сказал: "Зер гут".
И пошел станок длинный день длить,
резец вгрызаться в металл.
Иван только раз выбегал отлить
и в небе буквы читал.
Из-за разросшегося куста
не все было видно ему:
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕ
ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТА
ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ КОММУ
2. Andante: New York, 1992
Оборванец, страдающий манией
ощущения себя страной,
растянувшейся между Германией
и Великой Китайской Стеной.
Неба синь – у него под глазами,
чернозем – у него под ногтями,
непогодой черты его стерты,
пухнет брань на его языке;
понукаемый голосами,
он чего-то копает горстями,
строит дамбу в устье аорты,
и граница его на замке!
3. Allegretto: Шантеклер
Портянку в рот, коленкой в пах, сапог на харю.
Но чтобы сразу не подох, не додушили.
На дыбе из вонючих тел бьюсь, задыхаюсь.
Содрали брюки и белье, запетушили.
Бог смял меня и вновь слепил в иную особь.
Огнеопасное перо из пор поперло.
Железным клювом я склевал людскую россыпь.
Единый мелос торжества раздул мне горло.
Се аз реку: кукареку. Мой красный гребень
распространяет холод льда, жар солнцепека.
Я певень Страшного Суда. Я юн и древен.
Один мой глаз глядит на вас, другой – на Бога.
ИЗ БЛОКА
1
...А в избе собрались короли.
Выпиватель водки. Несъедатель ни крошки.
Отрепьем брюк подметатель панелей.
Он прежде жил у старушки в сторожке
в оледенелой стране оленей.
Он одышлив. Щеки его толстомясы.
Но когда ему водка слепит ресницы,
голубые песцы, золотые лисицы
перебирают в небе алмазы.
2
...У сонной вечности в руках
.................................................... *
* См. "Итальянские стихи" (2).
3
...Черную розу в бокале...
Очи черные, ночи белые, вполнакала
электричество, речи вздорные, полбокала
недопитого бледно-желтого, как знак вопроса –
черенок в пузырьках – поникшая черная роза.
Я пьяней вина, пьяней вина, пьяней водки.
Очи черные, ноги голые идиотки-
красотки, повизгивающий цыганский голос,
широкошуршащий, как санный полоз.
То во мгле игла, во мгле игла чешет пластинку.
Кошка черная вылизывает каждую шерстинку
черную, во мраке мурлычет мурлыка,
как Блок не вяжущий лыка.
Скатерть белая, вином залитая,
а заря за окном – золотая.
Где там мой стакан недопитый?
На душе океан ледовитый.
4
Отвяжись ты, шелудивый...
Записки фокстерьера о хозяйке:
однажды на прогулке сполз чулок,
роняла крошки, если ела сайки,
была строга, а он служил чем мог.
Вся правда исподнизу без утайки,
вот только псиной отдает чуток.
Собачья старость. Пожелтели зубки,
и глазки затянула пелена,
и ноздри позабыли запах юбки
и ушки шорох узкого сукна.
Звенит звонок, и в колбочку по трубке
стекает безусловная слюна.
Над памятью, как над любимой костью,
он трудится, самозабвенно тих,
он на чужих рычит с привычной злостью
и молча сзади цапает своих,
скулит, когда наказывают тростью,
и лижет руки бью... Да сколько их!
Собачий мир, заливистый виварий.
Клац-клац чемпионат по ловле блох.
У-у-у-у-у-у подлунных арий.
Трагический и тенорковый Блок.
И вот, Иван Петрович бедных тварей,
в халате белоснежном входит Бог.
Он в халате белоснежном,
в белом розовом венце,
с выраженьем безнадежным
на невидимом лице.
1919 – 1994
Так вот кровавит себе ветеран
рот выстрелом острым и быстрым.
Так музицируют по вечерам
фрейдо-марксисты – трам-тарарам, –
склонные к самоубийствам.
Трубы дубов зеленели в лесах,
флейты посвистывал зяблик,
грома литавры – трах-тарарах, –
но уж несется на всех вирусах
в Гамбург испанский кораблик.
С ядом в крови и сухоткой во рту
так музицируют немцы,
будто подводят под чем-то черту.
Третьи уж сутки пылает в порту
красный флажок инфлуэнцы.
Заперт корабль в карантинную клеть.
Некому требовать карго.
А в заводи медь пойдет зеленеть,
краска лупиться, железо ржаветь
и холодеть кочегарка.
ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ
Из дому вышел в свитерке.
Апрель был в легком ветерке.
Москвы невзрачная река
подмигивала издалека.
Казалось, тот же мутный глаз
глядел сквозь амбразуры касс.
Он ставил подпись, деньги греб,
и радость раздувала зоб
весенней песней торжества:
Москва-ква-ква! Москва-ква-ква!
Уж как везло! Уж так везло!
Он в общем знал, что это зло,
но бес, щекочущий ребро,
шептал: ништяк, добро, добро!
Так он попал на праздник зла.
Рвал с вертела куски козла,
пил и лобзался с жирным злом,
а в это время под столом
его рука путями зла
под юбку, потная, ползла.
Потом он побывал в аду.
Блевал грузинскую бурду
и нюхал черную звезду
у сатаны в заду.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В котлах клубился серный дым.
Он шел по улицам пустым
пустой, воняющий грехом,
и ехал бес на нем верхом.
Домой пришел без свитерка.
Ключ долго ерзал мимо цели.
Только и мог сказать, что "Рка-
цители".
С ГРЕХОМ ПОПОЛАМ
(15 июня 1925 года)
...и мимо базара, где вниз головой
из рук у татар
выскальзывал бьющийся, мокрый, живой,
блестящий товар.
Тяжелая рыба лежала, дыша,
и грек, сухожил,
мгновенным, блестящим движеньем ножа
ее потрошил.
И день разгорался с грехом пополам,
и стал он палящ.
Курортная шатия белых панам
тащилась на пляж.
И первый уже пузырился и зрел
в жиру чебурек,
и первый уже с вожделеньем смотрел
на жир человек.
Потом она долго сидела одна
в приемной врача.
И кожа дивана была холодна,
ее – горяча,
клеенка – блестяща, боль – тонко-остра,
мгновенен – туман.
Был врач из евреев, из русских сестра.
Толпа из армян,
из турок, фотографов, нэпманш-мамаш,
папашек, шпаны.
Загар бронзовел из рубашек-апаш,
белели штаны.
Толкали, глазели, хватали рукой,
орали: "Постой!
Эй, девушка, слушай, красивый такой,
такой молодой!"
Толчками из памяти нехотя, но
день вышел, тяжел,
и в Черное море на черное дно
без всплеска ушел.
Как вата склубилась вечерняя мгла
и сдвинулась с гор,
но тонко закатная кровь протекла
струей на Босфор,
на хищную Яффу, на дымный Пирей,
на злачный Марсель.
Блестящих созвездий и мокрых морей
неслась карусель.
На гнутом дельфине – с волны на волну –
сквозь мрак и луну,
невидимый мальчик дул в раковину,
дул в раковину.
КОШМАР 1995
Приснился сон на пять персон.
Банкет по конкурсу анкет.
"Невероятный натюрморт"
закусок и советских морд.
Сначала выплыл, толстобрюх,
писатель, кандидат наук
(Ильич сказал бы "мозговнюк"),
в здоровом теле русский дух.
Увидел полный стол жратвы
и крикнул ей: "Иду на вы!"
Но тут поднялся генерал
в свой небольшой, но толстый рост
и воздух речью обмарал,
произнося военный тост:
"Чужой земли мы не хотим ни пяди.
Сдавайтесь, бляди!"
А там смутнее – у дверей
еврей, но как бы иерей,
давитель на носу угрей
тремя перстами – ейн, цвей, дрей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И я там был,
мед-пиво пил.
Звяк рюмок, вилок, голоса.
Лежит убитый человек.
Сползает муха, как слеза,
из полуприоткрытых век.
Я в эти щелочки смотрю,
"Пора проснуться", – говорю.
Смотрю в застылые глаза
и говорю: "Ты за?"
Он за.
| Вернуться на главную страницу | Вернуться на страницу "Тексты и авторы" | Лев Лосев |
| Страница подготовлена при содействии Дмитрия Белякова Copyright © 1999 Лев Лосев Публикация в Интернете © 1999 Союз молодых литераторов "Вавилон"; © 2006 Проект Арго E-mail: info@vavilon.ru |