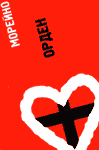
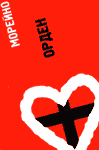 |
1
В городе кошачьем и голубином
день-деньской хожу по воду
любить тебя и не быть любимым
слаще чем служить Господу
Что мне в этом ах что мне в этом
если нет твоего птичьего тельца
на него наложено вето
беспардонным галилейским умельцем
на озерной меркнущей глади
меня рыбий профиль твой кличет
и устам моим Христа ради
теплый пух стопы твоей птичьей
2
Налево легла Варшава направо твои шаги
твои сандалии ржавы бархатны сапоги
тело твое баранина на вертеле в день поста
губы твои как падаль что ястребу застит уста
Я никогда никуда не вернусь ни в славе
ни в величии ни во главе ни в клане
трус и выжига я тем не менее правил
более достойных чем желчь желаний
лунные деревья в костюмах иеху
тянут вверх свой щит к простреленным тучам
я вернусь таким же каким уехал
я везучий
3
И чаша исполненная что слёз виноградин
кажется скатерти хищницей и приманкой
если нимфа пришла к источнику в вертограде
то как это роскошно звучит вода нимфоманка
ветер-нимфоман дерево-нимфоманко
грустный турок клюкнувший спозаранку
ты же - господи - худого слова не говоря
но роняя его как янтарь и цедру
ты же - господи - в один из дней января
теряешь ожерелье из катышков (рифма) сердца
ибо только тяжесть чужих и свинцовых вод
обкатала сердце мое ну вот
SINE NUMERO
* * *
скорость завораживает. Завороженный
забываешь, откуда пришел
чей ты сын
где твой дом
здесь мой дом
мои последние письма не будут посланьями Цинцинната
но прошениями о помиловании, отправленными на твое имя
любительская кунсткамера, отдел любовных мандатов
медальон, галстучная заколка, мальтийский крест
чиркнешь спичкой - письмена изогнутся
зашевелятся живым существом: саламандра
костерок из книг, закат
все огни огонь
* * *
ночь пришла и встал на языке моем табор
слов, одетых в плахты и цветные жилеты
чад мрака и тьмы, исчадий радости и надежды
не сказанных ни мне, ни тебе, ни третьей
ночь душна. Вернулась осень к своим пенатам
линия огня; фронт, не имеющий тыла
порох свеж, и каждый ходит под каждым
тлеет ли вереск, бензин горит - не все ли равно
нам не страшно, ибо не пробил час нашей последней жизни
котом ли, слоном, но нам еще жить и жить
исколотые шиповником руки
прощальные астры
честный пот, пролитый в подмосковных садах
ухожу, сутулясь
* * *
щеки мои в огне
лоб - в ледяном стекле
я еще мальчик. Мне
двадцать и девять лет
в облаке чистоты
ангел встал за спиной
а за стеною ты
(капитальной стеной)
мама, постель, уют
проповедь о тепле
гости тебе поют
песни военных лет
наша с тобой звезда
спрятана на груди
я еще мальчик. Да
власть моя впереди
* * *
жизнь моя - след
облачка на твоем лице
так же медленно и горделиво поднимаешь ты веки
и тень от твоих ресниц
застит любое солнце
мой странный край
рыцарский день; ночь в фольварках
запах крестьянских усадеб острее
чем крысиный хвост
в плавнях, тряся головами, засел дракон
и зовет на битву
астральная связь племен. Поединок с тенью
в окно влетает пуля, пущенная Чапаевым
мимо меня текут воды Орды и волны Янцзы
а я не вижу ни ближнего, ни дальнего света
кони ржут за Сулою, но дружина молчит
иди, собирай меня
* * *
по ночам, когда гном говорит, положа руку на сердце: старость
и бдит надо мной, а сон разглаживает морщины
стынут зубы, в ящики грузят тару
небритые лица в подушки прячут мужчины
как тогда, сто веков назад, я растер меж ладоней вереск
Джебраил оседлал мою грудь и сдавливает ключицы
незапятнанный родник моей чистой вере
окропляет крылья, с которыми часто снится
Книга - бархатистые листы под ногами
чудо-гости: покружились и таем
столько верных линий брошено на пергамент
что он стал практически нечитаем
что с числом песчинок счетом мы будем квиты
на моей дороге из Мекки к тебе в Медину
всякий раз мне Господь посылает с тобой такой длинный свиток
что я только к утру разовью его наполовину
* * *
нас много, но я один
холмами я обособился так
что стал континентом
пастухи не пасут на мне коз
руна́ не взыскуют пряхи
ни чу́ма, ни вешки, ни огонька
я необитаем
к моим чреслам ластятся стаи морских коров
рептилии мне кладут на рамена яйца
и я ненавижу себя за невнятность даров
подкинутых Господом, этим старым данайцем
Идол мой
я твое никто
девочка с серными спичками
под Новый год
в час гермафродитов
когда над моим горизонтом всходит луна
и гулкие звезды дубасят пустошь, я вновь просыпаюсь
и снова бреду на скалистый брег самого себя
там я пою в терновнике
* * *
жить под синими потолками в присутствии двух светил
или побриться, надеть костюм и в сорочке
прыгать из окон четвертого этажа
на брусчатку
улица Элизабетес, улица Екаба
музыка Брамса, музыка Палавиччини
все это чтить
то есть, словно под парусом
плыть под ресницами
луками экзотических рек
над башнями незапамятных городов
подбирая расплющенных
униженных и оскорбленных
мой кумир
я сношусь с тобой через вязь времен
почтой когерентных лучей
на земле этой, - я доношу, - каждый унижен
на этой земле нет прямоходящих
и сердце полнится скорбью
* * *
беден я, Господи, не по своей вине
тщетно, клоп на ложе Твоей рабыни
с паросским мрамором бедер
сандаловым деревом ягодиц
делю тревоги и нужды
любовь не имеет длительности, как не имеют
ее такие вещи, как смерть и память
где из трех гетер одна танцует
белый танец: дама напрашивается к кавалеру
и только лишь если руки твои
сомкнутся быстротекущими водами
над моими плечами
я возвращаюсь
в дом без греха
в час до распятья
в садик братца Франциска
в кольце твоих рук, сестра
по гулким дворам
ходил брат-старьевщик
шурум-бурум
старье берем
* * *
я никогда не знал, что ты суеверен
я не видел тебя стучащим по деревяшке
Римлянин, мастер позы
ты не тот, за кого мы тебя принимали
ты не воин - дакская статуэтка
ты наследный принц эбеновых джунглей
по ночам ты объезжаешь свои владенья
и обдумываешь метаморфозы
"вода превращается в камень
камень в птицу
птица, тая, оставляет лужицу крови
стонет снег под черными каблуками
и в дугу срастаются чьи-то брови
Джезу, Джезу, сколь мало значат для побежденных
памятки и лаковые открытки
у креста сбирающиеся жены
носят на ресницах орудья пытки
все теряет качества или свойства
превращается в противоположность"
так и ты - ты быстро ко всему привыкаешь
ешь улиток, спишь на ложе Прокруста
и уже никто не может вспомнить твоей улыбки
означавшей смуту и безнадежность
A
Наконец-то слух, которым бредил, достиг меня.
Наконец морозный воздух достиг глубины огня.
А часы пошли, звезда зажглась, пал желтоватый снег
И серебряное лицо жгут на любой стене.
И куда ни кинешь взор, монету - уже костер.
И дозором встали средь черни улиц виселица, костел.
Чем побрезговали, словно гора Магометом, теперь настает само:
Ночь барахтается в окне, воет волк за холмом.
На руке, которая держит весь мир, топорщатся пальцы вверх;
Щепотью - отростки, перстью - хвоинки вер.
Мы давно не пригубливали белых румынских вин.
Я давно отрекся от выплатой красных долгов и вин.
На заре ходят медленно, шепчут, в полдень - бегут, кричат.
Назарет-город: мед, елей, вино, сладкий кухонный чад.
К мертвым бедрам земли ласкается небес голубой муслин.
В тишине сверчок слезает с шестка, пишет в Вену, в Иерусалим.
Страна покрыта порошей, ширина ее - пять локтей.
Я думаю о проросших зернах, сгибах локтей.
Я помышляю, пустынник, о твоих лишь ногах:
Ступнях, волосинках, щиколотках в египетских сапогах;
О нишах в порталах ребер, где эхом блуждает вздох.
О милостыне, рассыпанной по подвалам, ходок.
Вольно́ ж сухой январской пыли выслушивать песнь стремян!
По дороге на кладбище пронесли еще одну горсть семян.
На десяти скрипучих качелях раскачивается Двина.
На острие недели сойдемся ли, Адонаи?
B
Над низкой крышей месяц пасет звезду.
За мышью тенью коршун скользит по льду.
А в глубине, где утром и днем темно,
тяжелый карп, вздыхая, идет на дно.
Все мирозданье, от рыбы и до звезды,
на темных окнах выросшие сады
и город, задохнувшийся в жарком сне,
покорны встрепенувшейся вышине.
Над роем покосившихся фонарей,
над рыхлыми сугробами у дверей
в ночную даль без облика и без дна
меня несет поднявшаяся волна.
И я - пастух, идущий сквозь небосвод
к Тому, кто сам шагает по лону вод.
- Видимо, так мы сумеем убежать от дождя, -
подумалось мне, и мы спустились в метро -
Фортуна и я - низринулись,
едва по отвесной линии вниз хлынули капли,
в огромную арку по лестнице, а за спиною
арку уже занавесило
пеленою дождя, а мы окунулись
в нирвану фуникулеров,
поручней, цепких рук
и костяных бус вокруг смуглых запястий.
И поезд, утопая в берегах
моей любви и обгоняя тучи,
на круглых лакированных ногах
вперед стремился, гордый и певучий.
Но я еще помнил ее узкогорлые плечи,
черной трапецией подчеркивающие равнобедренность мира,
примиряющие живое с растительным царством,
плывущие в равносоставленном времени.
- Странно, - сказала она, - что боярышник
так разросся.
Май на дворе, месяц псалмов,
а тут...
Зеленые ягоды, мелкие,
но полные сока.
(Играли в футбол,
мяч летал над заборами.)
Набухали груди под платьями,
икры, круглые животы,
и надо всем этим шар
солнца - неведомый, виртуальный,
исполненный магической влаги, -
все было у них впереди,
все впереди у них было:
реки во льду, поля в снегу, мосты над водой.
И даже если кому-то из них предстояло
окончить жизнь пятном на асфальте,
у них впереди еще было парение
в восходящих потоках, нисходящих потоках...
Как много нас.
Запах возвращает нам тех, кого мы любили.
Пока он держится, с нами те, кого с нами нет.
За ночь за окнами раcпускался сад, в нем гнездились птицы.
Подойдешь, отдернешь штору -
там никого.
Мы все солдаты любви. Наш след ведет к океану -
вместилищу судеб, хранителю напластований.
И спящие вместе похожи на рыбу на блюде,
грезящую о нересте в том океане.
И его оконечность, прощальным кодом,
памятью на мозг, в извилистых скалах
туман охватывает, наслаиваясь на воду
и на пески, торжественно и устало.
Берегом памяти я назову эту землю.
Берегом жадности и алчбы, ибо память страждет
здесь без ласк твоих более всех членов моих, ибо руки дремлют,
губы спят и глаза,
а память - жаждет.
*
Правду сказать, боярышник был не ко времени.
Как не ко времени всё:
жизнь, - да и смерть
не ко времени. А его-то как раз не хватало,
чтобы спросить: "Как живешь,
мое счастье? Как ты там живешь, Чижа-Пыжа?"
Вита - женщина с большим размахом.
Она строит дом на улице Алберта.
Тонка, изысканна, тайно порочна,
но никем не желаема, как цветок
на слишком тонкой ножке со слишком большой головою.
Она говорит, и складки рта ее
напоминают луну по пути с запада на восток,
купающуюся в лучах закатного солнца.
Местечки отрезаны от мест, места от столицы -
она освещает разбредшиеся дороги,
где я заплутал во времени и пространстве,
с запада на восток, между жизнью и смертью.
Спи, Иванушка, зайчик мой,
красно солнышко, ясны дни.
Ночь пришла, как к себе домой:
баю-баюшки, спи-усни.
Сел волчок на пустых лесах,
вынул аленький поясок;
во березовых туесах
разливается свежий сок.
Ты под сердцем пока лежишь -
алый плод, голубой магнит.
А серебряные ножи
режут плоть, и судьба хранит.
Море в тающих берегах
расправляется с храбрецом,
и русалка плывет в стогах
с удивленным твоим лицом.
Под ракитовые кусты
веет с запада дым костра.
Так же медленно, как и ты,
засыпает твоя сестра.
Длинные, как версты, песни,
длинные ноги, дожди, длинные
как пролеты лестниц, автомобили, их следы
на волглом асфальте - дети Глории.
С неизбывной тревогой вглядываюсь в любимцев светлого часа:
выстрела в упор хватит,
чтобы голос смолк, подкосились ноги,
только дождь нагонит не в этой земле,
так в той, не в жизни...
Клубком наматываются дороги,
им лютовать, а нам бедовать.
Над ними месяц встает двурогий
и ногтем скалывает печать.
Услышу, может быть, голос рога,
и Роланд выйдет из-за угла.
Мне жить осталось совсем немного -
не дальше воронова крыла.
В этом городе крыши домов похожи на башни:
удивительные, свободные, восходящие к небу,
вне любви и тоски,
вне тоски, и любви, и печали,
вне вопросов и вне ответов, бессмысленных, праздных.
На башнях разгорается пламя, трепещет закат,
скоро сменится стража.
Запоет петух - иди предавать, ничего не бойся.
В доброй Европе праздник,
а мы, повара, - не званы.
Близко время цыган,
пора начинать кочевье.
Ветер бьет в паруса, слово произнесено,
да и что у нас есть, кроме вещего слова.
Смерть не ко времени...
О Арджнуна, дваждырожденный!
Я, дваждывлюбленный,
тянусь нескончаемым потоком
в страну первой любви из страны второй,
чтобы позже - обратно - из первой страны во вторую.
Одна страна велика, как снег,
другая мала, как дым.
Одной страной мне отпущен век,
в другой умру молодым.
Пепел первой страны осел во второй стране.
В какой бы стране я ни был, другую вижу во сне.
Бессмысленно спрашивать, бессмысленно отвечать.
Множество мелких милых вещей
отвлекают нас от вопроса,
но никогда - от ответа.
Или наоборот, смотря по тому,
кто истец, кто ответчик. Swallow, swallow,
these fragments I have shored against my ruins -
сказанное не по-русски
подобно озеру за деревьями:
блеск в глаз, остальное - лишь обещанье;
на водную гладь сели гуси.
Хотите ли есть, гуси, гуси?
Ласточка, ласточка! Ворон, ворон:
бери меня, я весь твой.
| Вернуться на главную страницу | Вернуться на страницу "Тексты и авторы" |
Сергей Морейно |
| Copyright © 2000 Сергей Морейно Публикация в Интернете © 2000 Союз молодых литераторов "Вавилон"; © 2006 Проект Арго E-mail: info@vavilon.ru |