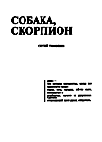
- Собака, Скорпион:
[Стихи].
СПб.: Митин журнал, 1994.
ISBN 5-8352-0489-2
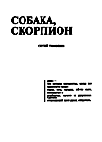
|
[Стихи]. СПб.: Митин журнал, 1994. ISBN 5-8352-0489-2 |
|
Приходит человек, его костюм измят... У него было влюбленное лицо... Портье отдал ключи с поклоном... То, что я знаю о Париже, – это... Наступая, осень всегда кажется нам чужой... |
* * *
Приходит человек, его костюм измят.
В его лице очки на тонких дужках.
Он спорит с пустотой, он сумасшедший, ветер.
Дрожат очки на тонких дужках.
Его костюм измят, он быстро спорит.
Приходит человек и заполняет комнату.
Приходит человек, он долго шел сюда.
Его костюм измят, он спорит слишком быстро.
Дрожат его очки, он идиот, он спорит.
Он ветер, сумасшедший, он пришел.
ПИСЬМО К БЕЛОМУ БОГУ
Мой белый бог
Страна страннее жути
и в комнатах как в поездах
трясутся вещи.
Падает вода.
Наш взгляд – не выстрел. Молча
мы снимаем одеяло с потолка,
его дырявим сигаретами.
Не лето больше.
Дальние разрывы цветов
цветов
не сотрясают кровлю.
Любовью невостребованной пахнет
предельный воздух. Сладко –
не встречаться. И мыши бегают
сквозь пальцы как туман.
Автомобили веры
ослеплены
стрекозами.
Шар жара охлажден.
Кресты весенние помечены слюной.
И оттиски перечислений
ржавеют
в керамической посуде.
Мой белый бог
Мой бог синее ртути
Потребности в вопросах возросли
и дети плачут искренне и жалко
а ты дорогу вышиваешь крестиком
на ткани прирученья
и починяешь музыку. Она –
одежда быстрых измерений
и женщины ее катают в пальцах,
в длинных, тонких пальцах, похожих на любовь.
Тепло равновелико. Лица
стиснуты ладонями, носы приплюснуты
к стеклу.
Сжигаем жимолость.
Колени, бритвы, газ. Нет ничего спокойнее,
чем весть. Чем дни прохладней,
тем они короче.
Мой белый бог,
ты умер или нет?
* * *
Солнце встает по чуть-чуть.
Ангел, собравший ночные молитвы,
несет их, как старые книги.
Облако может лететь. Иногда –
против ветра. Но слепые всегда
насторожены. Лестницы, дни,
прикосновенья, года.
Бестелесная музыка возит нас по Европе,
как спящий шофер. Вальсы –
примерные птицы. Я думаю,
если стараюсь. Грущу.
От домов в это время исходят
столбы снов и тепла. Про себя
я давно повторяю слово "вода".
Кто он, кому это нужно?
Пускай выходит из темноты.
Маленькие черные жалобы
вырываются из трубы паровоза.
ПРОЩАНИЕ
Они стояли вдвоем. Он напевал,
а она курила сигарету, которую
он стрельнул полчаса назад
у приятеля с повязанным на голове
синим пиратским платком. Они
стояли, обнявшись, и он шептал
слова своей песенки прямо в ее
вьющиеся волосы, а она выдыхала
дым и иногда подставляла губы
для теплых, осторожных и внимательных
поцелуев, которыми они обменивались,
потому что больше у них ничего
не было. Только эти губы, мягкие
в своем мгновенном забытьи. Назавтра
она собиралась уезжать в царство
жары и порхающих из рук в руки
переменчивых карт. Там она собиралась
провести полгода. Он тоже хотел
уехать, но не знал еще твердо,
доберется ли до своей желанной
Франции. Одно было для него очевидным,
то, что время, которое он
еще будет здесь, теплыми вечерами
ему будет так не хватать руки
в его руке, неторопливых разговоров,
меланхолично бродящей вокруг собаки
и этих губ, скользящих и втягивающих
в свое самое сладкое небытие.
Она докурила сигарету
и проводила его до угла, где
они расстались на виду у всего
квартала. Ей пришлось
в последний раз встать на цыпочки,
чтобы поцеловать его. Он улыбнулся
и помахал ей рукой, уже отстраняясь
и зная, что главное – не оборачиваться,
когда он сделает первый шаг и пойдет прочь, прочь
в этот теплый прозрачный вечер
с запахом воды от близкого канала.
КОМПАНИЯ
Человек, который становится на цыпочки
и заглядывает в окно. Человек, который
должен совершить что-то невразумительное.
Мужчина в костюме с оторванной пуговицей,
женщина с потекшей тушью, ребенок, боязливый
и напуганный. Вас я призываю сегодня на
маленькую пирушку в моей комнате под музыку,
сигареты и чувство общего грустного
предназначения: стоять у окна, болтаться
с оторванной пуговицей, бояться. Чудить
мы будем весь вечер, чудить и ходить гуськом
друг за дружкой. Я поцелую женщину с потекшей
тушью, а, может быть, не я, а кто-нибудь другой.
Мы будем есть пирожные, вдохновленные нашей
глуповатой общностью, мы будем молчаливо
наблюдать приметы нашей общей напасти.
Мы, не нашедшие места в этом мире,
соберемся в моей комнате на один вечер,
чтобы позже разойтись в ночь, как заговорщики.
Я буду вспоминать вас всех. А вы,
вспомните ли меня, долговязого юношу
двадцати двух лет, устающего от всего,
кроме книжек и бесцельных прогулок
в одиночестве. А может, заглянете
еще на один вечер? Я принесу патефон,
и каждый сможет покрутить его ручку
несколько раз, сколько захочет.
* * *
У него было влюбленное лицо,
пора уже было признать, что он
влюблен. В руках у него был
длинный зонт, и за ним из окна
наблюдали священники. Девочка
думала о своей кукле и, когда
мама вела ее за руку, не обратила
на него внимания. Мама сказала:
"Не купить ли нам ветчины?" – и
направилась к магазину. Он бежал,
припрыгивая и крутясь вокруг оси,
поэтому все время терял направление.
Он был влюблен, хотя ни одна
знакомая девушка не приходила
ему на ум, он смеялся. Он знал,
что погода будет прекрасной, пока
ему захочется этого. И даже если
ему будет все равно, она некоторое
время будет еще такой же. Длинным зонтом
он размахивал над головой и ставил его
в прихожей. Ночь была синей, день был
зеленым, а губы его любимой были красными,
как клубника, он свистел и шагал,
поздравляя сам себя. Да, его любимая
должна быть прекрасна, он написал об этом
другу целое письмо и вложил в великолепный
конверт. Друг будет обрадован и пришлет
привет: открытку с маленькой скрипачкой
на освещенной огнями улице.
* * *
Ночные кошмары.
Шары.
Из свинца.
Их плавное скольжение к югу.
Где находится оазис, библиотека,
Дом с прохладными затемненными комнатами,
Человек, говорящий на непонятном гортанном языке,
Женщина с лицом, образованным наложением двадцати фотографий.
С глухим стуком
Шары
Переваливаются через линию горизонта,
А та вращается,
Как стеклянная дверь,
На которой написано:
"Ход".
Пугает прежде всего
Бесцельность
Всего, что происходит.
* * *
Портье отдал ключи с поклоном.
Я поднял в ложе веер ваш.
Я шел по Невскому в цилиндре.
Я нес цветы вам, много белых.
Как господин, сумевший умереть,
сумевший смерть увидеть, отвернуться.
Народ сновал, народ был безудержен.
Я кланялся двум-трем знакомым.
Я шел по Невскому давно.
* * *
То, что я знаю о Париже, – это
фотография внутренностей
кофейной чашки.
Мы видим здесь несколько аргентинцев.
Они мило беседуют, не обращая
внимания на то, что хозяин заведения
мертв уже пятнадцать минут.
В конце концов появляется
черноволосая женщина с сумкой
через плечо. Она достает из нее
корректуру статьи о театре и магии.
Я подхожу к ней и увожу
ее через запасной выход.
На площади несколько голубей
и полицейских. Я знаю,
это займет мало времени.
Я душу ее в одном из захламленных коридоров.
Ее тело падает. Ее чудесные волосы
закрывают лицо.
Все историки в прежних жизнях
имели отношение к психиатрии.
* * *
Наступая, осень всегда кажется нам чужой,
потом мы легко привыкаем к ее поступкам.
Бабочка не садится на ваше платье,
песок не прилипает к разгоряченной коже.
Зато теперь можно встречаться в кафе
в большом сером здании на острове,
смаковать водку, сидя в красных креслах,
и говорить о том, как мы когда-то любили.
Это всегда волнует, прежнее чувство, прежний сезон.
Страсть, как спектакль, который роднит актеров,
когда занавес падает. Нынче на сцене нежность.
Маленькая балерина на белых пуантах и в
воздушных юбках. То, что она танцует при пустом зале,
ее только радует. Она благодарна всем,
кто пустил ее в театр, и благодушные сторожа
беседуют о ней внизу, как о любимой внучке.
Руки говорят о границах, которые не перейти,
но теперь, очерчивая их, мы знаем удовольствие
расстояний. Дистанции лишь подчеркивают
близость, которая длится неторопливо. С нами все,
что случилось – благодатная тяжесть. И то, как
ваш легкий стан, обернутый в теплую серую кофту,
все еще манящ – это какая-то прекрасная ошибка,
ласковое недоразумение.
АМАТУ 6
Одинокий, как летчик, пилотирующий сновидение,
в котором одни голые вязы и ты, похожая на
неопределенное чувство перед уходом из дома,
в котором уже нечего объяснять, кроме тоски.
Я перехожу дорогу, не останавливаясь перед
машиной, неистово тормозящей, вслепую я испытываю
судьбу, настроение, испытываю тревогу, не понимаю,
как я мог, ведь жизнь дорога, как никотин.
Ты выпрыгиваешь из окна, хватаешь меня за шею, валишь
на землю, притягиваешь к себе, я контролирую
ситуацию неосознанно, просовываю руки под твою
кожаную куртку, под свитер, люблю, когда твердеют соски.
И тут к нам подходит группа молодых, коротко подстриженных
людей, они достают кастеты, один из них проламывает мне
голову, за какую-то старую стычку, молча, безукоризненно
точно, поражая меня в висок, вытирает руки о широкие штанины,
встает. Они уходят, ты все еще целуешь меня, забрызганная
моей кровью. Потом отодвигаешься и смотришь на мое
лицо. У тебя тревожные глаза. Наконец-то ты в меня
влюблена. По-настоящему. Начинается дождь. Мы остаемся одни
на улице. Ты укачиваешь меня, тебе кажется, что ты
укачиваешь меня. Ты спрашиваешь: Сколько тебе лет, а мне
восемнадцать. Ночь, попусту ночь, как всегда. На Амату 6.
СНЫ ВИКТОРА
Из его сна
огромная волна морской воды
ворвалась в сияющий ресторан
и подняла столики к потолку,
разломав их в щепки.
Перед этим в воздухе появилась
удивительная ясность,
можно было видеть
другой берег
через немыслимое расстояние.
Его друг сказал: "Поспешим наверх!"
и увлек его
за собой.
Люди без лиц плавали
среди белой пены.
"Это цунами и у него женское имя",-
прошептал испуганный метрдотель.
Но за шумом урагана
его никто не услышал.
После
дюны были усыпаны
обнаженными смерзшимися телами.
На следующий день в городских каналах
было очень много воды.
Сбивающий с ног ветер
мчался по пустым освещенным улицам.
Все мерцало,
как на антикварных открытках.
У своего дома он нашел
титульный лист старинной рукописи,
изящным почерком там было выведено
смутно знакомое имя.
Он обрадовался и посмотрел на меня
устало и фантастически.
Волшебство обдавало нас ветром.
Прощание было коротким.
По пути домой я наткнулся
на изогнутый деревянный фонарь,
сплетенный из прутьев.
Я поднял его
и принес домой.
Теперь в нем стоит свеча.
Бушующее море
глухо и непрерывно бьется
в разрушенный ресторан.
РЕЗКОСТЬ
Нам надо держаться, сказать что-нибудь,
подарить цветы. Огромные надувные коты
зависли над городом и водят
безмолвными мордами. Проезжающий трамвай
наполнен сыплющимся из всех щелей
песком. Я люблю твои деньги за то,
что они исчезают. Так ты сказала и вдруг
потерялась в толпе. Надо прищурить
глаза от снега, что бьется в лицо.
Его несет ветер, старый прохожий.
Я развеселился и выпил. Но бренди
щекочет ножиками тепла. Большие
красочные плакаты призывают к затяжным
поцелуям. Нам надо держаться, не
поддаваться на политику, секс, изобретения,
игру в трик-трак. Я поведу тебя через
эти перевернутые столы, и мы прибудем
туда, где все собрались потихоньку.
Слепящее солнце из всех карманов,
и мы покупаем шедевр – забывчивость
восьмидесятилетнего сторожа. Он – безмятежен.
Я прошу тебя не пускаться вплавь
из-за тоненькой непогоды. И вот ты
чувствуешь, и вот ты зовешь. Но некоторые
сумасшедши и шепелявят, как яблоневые коты.
Преисполнимся – это так чарующе. Шаг, еще шаг,
я целую тебя сквозь лицо. Падать – как лето,
легко. Ласково и безоговорочно, ноль.
И потом поднимись, протяни это
электричество, зажгись, путешествуй.
Нам надо стоять, нам надо подарить цветы.
Эти старушки продадут нам осень.
Возьми и неси кому-нибудь в сером.
Плакаты оборваны, утерта кровь на песок.
"Я люблю тебя сквозь черное", – так речь
веселит анаконду. Кто-то прячет и чувствует,
это неисполнимо, как резкость.
КОГДА
Когда вижу ваши обветренные губы
и понимаю, как ничтожно мало
знают они поцелуев,
в расстройстве щелкаю пальцами
и натягиваю треуголку.
Конечно, вам так идет
изображать лесную Диану
и гулять по холмам
почти без провожатых.
Но знайте, мой бог – Амур
и он заставляет меня,
говорит мне: "Спеши!"
Моя честь еще держит меня,
но ваше похищение
не за горами, если еще раз
будете глядеть так сердито
и строго.
Я – беспечный кавалер,
но ваша невинность
кажется мне нарочитой.
Может быть, за этим
скрывается
тонко подстроенная
ловушка?
Коварная, не желаете ли вы
меня поймать?
Чтобы разобраться в этом
впору
идти в трактир и сидеть там
два дня и три ночи,
задумавшись над вином,
чтобы в конце концов еще глубже
натянуть свою треуголку
в сердцах.
* * *
Я буду слушать шум подземки
в городе, выстроенном из блестящих
оберток сигар по доллару и больше
за штуку и опять в этом плаще
и с этой сигаретой в зубах,
которая в общем-то не нужна
и от которой всегда остается
привкус горечи и ясновиденья,
я буду смотреть через все те же
темные очки в металлической оправе,
те, что мой отец купил еще в 60-х
в Берлине и носил двадцать лет,
и так, засунув руки в карманы
и притворяясь независимым,
я стану следить за тобой,
меняющей цвет кожи и разрез глаз
произвольно, как взбредет в голову
безголовому уличному потоку,
и вдруг вспомню о своей давней склонности
к небрежным ухмылкам моих героев
где-то в промежутках между ударами судьбы
и попытаюсь изобразить что-то подобное,
и тут неожиданно ты, на этот раз
в синем плаще и с иссиня-черной
цвета вороньего крыла
короткой стрижкой,
улыбнешься мне в ответ, как если бы
ты была актрисой и когда-то прежде
разыгрывала точно такую же ситуацию
в фильме француза с развевающимися бакенбардами
и теперь не смогла удержаться и улыбнулась
точно так же – коротко и взлохмаченно,
даже жалобно, но ободряюще,
словом, так, чтобы я отбросил
в сторону сигарету
и отправился завтракать
в противоположном направлении
бодрее обычного.
ПЕВИЦА
Я живу на шестом этаже
в доме без лифта.
Когда возвращаюсь
с гастролей,
здесь страшно.
Но поднимаюсь и
достигаю цели.
Воля превыше всего
и любовь. Я пою
о любви, стону и пою
о любви. Мне нравится
ласка и ритм. Я люблю
свои голосовые связки.
Я белокурая, худенькая,
в доме без лифта
я устраиваю вечеринки.
Толстяки пыхтят,
танцуя с одной или другой
приглашенной манекенщицей.
Их длинные ноги
и мои голубые, серые глаза.
Их заученные улыбки
и мои длинные, бледные ногти. Я –
певица! Мои песни слышны.
Они встречаются чаще, чем небо.
Я слишком женщина. Я ухожу.
В доме без лифта на шестом этаже,
где я злюсь, возвращаясь с гастролей.
Я ранена. Я ниспадаю, как шелк.
Смотрите, я переваливаюсь
через перила. Мой искаженный мукой рот,
он приснится вам.
Он коварен.
ПОЕЗДКА
Черный опель 30-х годов
укрыл нашу сумрачную компанию,
ребят с растрепанными прическами
и девушек в черных чулках
и высоких ботинках
завоевательниц.
Мы ехали по утренним улицам
после бессонной ночи,
как какая-то ночная служба,
возвращающаяся на отдых.
Но мы потерялись. И кружили
в нашем лакированном жуке,
прильнув лицами к овальным стеклам,
как раскрашенные рыбы,
поднявшиеся из такой глубины,
где ничего не происходит,
кроме замкнутой игры теней
и пузырьков воздуха.
Мы корчили такие печальные рожи,
что нас никто не замечал.
Все строили планы на этот
начинающийся день
и глядели на небо
в ожидании солнца.
Нам ничего не оставалось,
как проскользнуть еще раз
по главной улице
и скрыться
в одном из бесчисленных переулков,
сразу утихнув
и прижавшись друг к другу.
Наш маленький автомобиль
скользил
по еще полутемной дороге.
ФРАНЦУЖЕНКА
Нет времени нигде
и ты в арабском городе спешишь
добраться до квартиры, где
прохлада, далекий потолок лепной
и завитки на зеркалах из бронзы.
Там есть сафьяновое кресло,
красное, как феска турка, с расшитой
золотом подушкой. Ты опираешься на спинку,
маникюр, такой же цвет, и губы где-то наверху
как будто опаленные, и ты
снимаешь туфельки и на пол их бросаешь
под кресло, где нет пыли – превосходная
служанка – на паркет.
А я стою спиной к тебе
и ничего не вижу. Так по крайней мере
я утверждаю.
Мой твидовый пиджак,
небрежная прическа, челка
до самых глаз, какой-то дикий вид,
но благородный, как фламенко.
Я испанец, Гарсиа, мой вид угрюм,
я слабонервен, не курю и изучаю
розы. Я слышал стук от туфелек твоих.
Мне обернуться? Нет, я знаю все.
Ты тянешься за сигаретами и пряди
твоих волос упали на лицо.
Сейчас, когда я у окна все это представляю,
я мог бы находиться и не здесь.
Я, Гарсиа, беглец, а ты
дочь коменданта, светловолосая француженка.
Тебе двадцать четыре года. Впрочем,
ты так юна, что, верно, лжешь.
Мне все равно. Я так тебя люблю.
Лимонные деревья. Вечер, море.
ЖУРНАЛИСТ И ЕГО СТАТЬИ
Журналист, отдавший статью в газету,
сидит в тихом баре на пустынной улице
и подсчитывает, сколько денег он может
пропить, а сколько должен оставить
на завтра. Парочка, сидевшая рядом,
два заросших юнца в мокрых из-под снега
куртках отправились, судя по всему,
курить марихуану в мужской туалет.
Журналист видел, как один из них
достал спичечный коробок и пачку
папирос, которыми пользуются только,
когда набивают их травой. Бармен
включил телевизор, но смотрел не на
экран сбоку, а на журналиста, сонно
и без всякого выражения. О чем была
его статья? Как и все статьи в это время,
о дожде со снегом и слепых курицах,
перебегающих дорогу, оставляя треугольные
следы на коричнево-белом асфальте.
Еще там была статуя, отвечающая на все
вопросы молчаливым покачиванием
мраморной челки. Журналист встретил ее
незадолго перед тем, как решился писать
статью, на железнодорожной станции.
Там на статуе чертили те, кто потерял
свою компанию и мечтал найтись. На
лбу стояло: "Зизи, я веретенообразное
озеро, 12 декабря". Статья называлась:
"Лоскутное одеяло на голову первой
птице". Журналист спокойно смотрел
за стойку, где был коридор, а в нем –
ящики. Пара юнцов вернулась, лениво
хлопая друг друга по плечу и долго
развязно смеясь. Журналист пытался
что-то вспомнить, красавицу, которую
любил, последнюю проститутку с черным
голосом. Она обещала бросить все, а он
чувствовал себя ангелом, полным лазури
и мужества. Кончилось все плачевно, еще
одна рюмка, тема для статьи. "Животное,
приходящее спозаранку или впотьмах".
Дверь хлопает, входит тот, о ком не будет
идти речи, журналист его не знает и равнодушно
смотрит насквозь, как мохнатые белые
бабочки ткут за лицом незнакомца карты,
салфетки и пряжу. Два юнца превращаются
в львов и извергают из пасти огонь, бармен
переводит на них неподвижный взгляд, для
этого он равномерно поворачивает голову,
не трогаясь с места. Это сонный норвежский
городок, где все говорят по-шведски, на границе
с Данией, львы уходят, возможно, искать
завтрак, бармен смотрит на то место, где
они стояли. Тот, о ком, делает неизвестно
что. Журналист старается не смотреть в его
сторону, джин в рюмке, кофе в чашке, он
живет. Его жизнь с ним. Внезапно он чувствует,
что завтра утром сможет проснуться за тысячу
километров отсюда, совсем другим человеком,
может быть, ребенком. Но одно он знает точно:
его будут звать Карл и он будет ненавидеть двух
рыжих девчонок из соседнего дома, сестер,
ходящих на уроки рисования.
ПИСЬМО
Моя маленькая Гаянэ.
Я мертв. Я пишу тебе
из пустой белой комнаты
под черепичной крышей.
Ветер сорвал с нас
картонные латы и плюмажи,
когда мы бросились в бой
с неразличимой ордой
беснующихся теней.
Мы столпились в недоумении
и умерли. Теперь мы здесь
и все пишем письма домой.
Но ни один ангел еще не подкуплен,
чтобы доставить эти письма
по адресу. Они лишь грустно
болтают крыльями и раскрывают
рты, силясь сказать что-нибудь
утешающее, но мы
не хотим слушать.
Моя маленькая Гаянэ,
мои походные сапоги
совсем прохудились и только то,
что здесь совсем нет дождей,
спасает меня от напастей
вроде болотной лихорадки.
Нам еще не запретили курить,
но сигареты кончаются, и говорят,
что скоро они станут нам совсем не нужны.
Моя малютка, один ангел с хитрыми
вечно подмигивающими глазами
согласился доставить это письмо
на землю. Я так ничего и не успел
сказать тебе, милая. Прощай.
ЖЕЛАНИЕ
Я хочу видеть женщин,
выросших в прогулках
между одной полутемной комнатой
и другой, в одном и том же особняке
на улице со спокойной зеленью,
где несколько старомодных машин
не двигаются с места по неделям.
Я хочу обсуждать с ними
полуистлевшие журналы,
в которых обворожительные улыбки
сменяются глянцевой рекламой
Стандард-Ойл и швейцарских банков.
Их то подчеркивающие, то скрадывающие
движения платья, в зависимости
от сезона или времени дня – темно-
или светло-зеленые, фиолетовые или
лиловые, их изредка вспыхивающие
на свету драгоценности
радовали бы меня, всегда облаченного
в расшитый золотом китайский халат
или строгий костюм с запонками
в виде головы Медузы.
Случайно проскакивающие
по этой улице мотоциклисты
распугивали бы голубей,
и я смотрел бы на них с балкона
на втором этаже,
глядя, как их кожаные спины
превращаются сначала в черные точки,
а потом – в ничто.
В кармане я бы носил
маленький револьвер
с перламутровой ручкой
и иногда колол бы им орехи
для дам,
занятых своими длинными сигаретами.
К ДЖЕННИ
Дженни, дорогая, помнишь ли ты красивые
плечи нашей дорогой Розалии, эти белые,
полные плечи, она всегда любила расхаживать
на прогулках в открытом платье с приколотой
яркою розой. "Отлично, – говорила я ей, –
Розалия, ты как всегда... великолепна!"
Помнишь ли, как часто нюхала она кокаин
в городском саду перед толпой совершенно
остолбеневших мальчишек. А как дивно она
подходила к полицейским и сосала свой пальчик
в лайковой белой перчатке, умильно поглядывая
на них, словно и они были такими же беленькими
и пухленькими. Ах, Розалия, Розалия, милый наш
ангелочек. Видишь ли, дело в том, что она
исчезла. Последним ее, вероятно, видел
местный кюре. Она садилась в трамвай,
весело размахивая белоснежным ажурным
зонтиком, словно расшалившееся дитя.
Она кивнула кюре и уже с площадки трамвая,
чуть приподняв край длинного платья, сделала пируэт
на изящнейшей ножке и... исчезла.
Уже две недели разыскивают ее по нашему
городку. Полицейские ужасно переполошились.
Здесь, у нас, множество слухов,
милая моя Дженни. Обвиняют даже каких-то
цыган. Все это крайне противоречиво,
но я думаю, что в конце концов
она все же отправилась на край света, куда
так давно собиралась. Ах, Дженни,
может быть, ты напишешь мужу в Северную
Африку, вдруг он там ее встретит
среди пустынных львов. Это так грустно,
все меньше остается нас, старых подруг. Напиши
мне скорей ответ и, если можешь, вышли
те выкройки, о которых писала в прошлом
письме. Привет, моя милая.
ОДНОМУ ТРУБАЧУ
Эрик,
ты прочитал всего Достоевского
и облил свои вещи шампунем.
Ты сыграл на трубе то,
что можно было бы представить
в виде двух противоположных зеркал,
отражающих шахматную партию,
где на доске только белые фигуры,
передвигающиеся просто так
или из любви к путешествиям.
Ты торговался с русской торговкой
ради мохнатой шапки
и шутил с Анастасией,
девушкой, чье имя было
едва ли не длинней
вашего знакомства.
Ты замирал, как задумчивый камень,
когда заканчивал свои партии
и стоял с тромпетом в руках,
склонив свою легкую голову
к какому-то послезавтрашнему вечеру.
Эрик, в твоем "Анаморфозисе"
я вижу
прекрасных белых посыльных,
гусар, что в невесомых каретах
везут рождественские подарки
через игрушечные леса
и трубят в прозрачное небо.
И что с того, что они опоздают?
Мы все равно их встретим улыбками
в одном из тех зеркальных пространств памяти,
где только будет возможно
пересечь ее бесконечные равнины.
ПЕЙЗАЖИ
Прекрасный серый день,
пасмурность выше обычной
и кофе приобретает вкус крови
или дождя, а то и просто
ржавой воды. Очертания людей
стираются до контура их
обремененных небытием душ. Вещи
приобретают ту подрагивающую,
дрожащую потертость, которая,
скапливаясь, образует туман.
В храмах одинокие священники
перебирают старинные книги
в переплетах, пропитанных
облетающим золотом.
Одинокий ребенок в черной
вязаной шапочке гонит перед собой
колесо от детского велосипеда
мимо парочки мерзнущих
австрийских туристов,
пожилой четы в очках
в металлической оправе.
В квартирах все разбредаются
по своим углам и занимаются
каждый своим делом, по возможности
интимным и необременительным,
как то: письма к друзьям, переводы
с иностранного, вышивание, грезы.
Я иду мимо этого немецкого стынущего
благополучия, одетый, как следует
тому, кто собрался выделиться на этом фоне,
добавляя пейзажу тот колорит, что
невежда мог бы и не заметить, но человек
со вкусом обязательно отметил бы
как нечто благородное и чувственное,
возвышенное и безнадежное.
Мои широкие белые манжеты
высовываются из рукавов камзола
почти до самых кончиков пальцев.
Я даю мальчику золотой,
и пока он рассматривает его
со всевозрастающим любопытством,
сажусь в споро подъехавшую карету
с наглухо зашторенными окнами.
Гони! – говорю я кучеру. "Мой сиятельный брат.
Не занимаетесь ли вы лепкой
фигурок из тумана? Этим чудесным новым
увлечением, пришедшим к нам из неизвестности?"
ШВЕЙЦАРСКИЙ ДЖАЗ
И когда на полу огромного синего автобуса,
югославского "Мерседеса",
ему удавалось прикорнуть на вытащенном
из водительского закутка матрасе
прямо над рыкающим соляркой двигателем,
он не видел ни радужных снов, ни кошмаров.
Но все в нем приветствовало это
передвижение прочь к новому городу
с новыми девушками, концертными
залами, гостиничными номерами
с видами на реку или шоссе. Этот ритм
брал его и вел, не позволяя опомниться.
Никаких чувств, кроме долга
и чувства дороги. Как легко было дарить
розы, оставляя их в руках провожающих
девушек, и пошутив на прощание, захлопывать
за собой огромную дверь, чтобы потом, глядя
на уверенную водительскую спину, обсуждать
с кем-нибудь из музыкантов особенности
любви или городов, проносящихся
мимо. Мы перепрыгивали границы,
как девочки в коротких платьицах
перепрыгивают границы классиков,
весело и сосредоточенно.
Государства были городами
и ночными дорогами от одних огней
до других. Концертные залы
были переполнены публикой,
и все лица вглядывались в лица
музыкантов, а они доигрывали и
исчезали, словно проносящийся мимо
ночной автобус с притушенными огнями.
Их любили, а они играли. А я любил
и тех, и других: публику, ожесточенно
хлопающую, и музыкантов, перешучивающихся
за кулисами сразу на нескольких языках
Европы. Джаз – это попытка опомниться,
когда все проносится мимо: город,
ночь, музыка, чей-то смех, опомниться
и улыбнуться, ничего не удерживая.
Сделать отпускающий жест рукой, отпустить.
РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА
Для Ф.Ф.
Сумасшедший переводчик играет на трубе
в оркестре, который репетирует в заброшенной
подводной лодке. Черные стены и узкие коридоры
замыкают звук. Они собираются на подмерзшей
пристани за заколоченными казармами. Кто из
них шляпник, а кто – мартовский заяц? По тонким
сходням забираются на борт и дальше в люк
рубки, чтобы рассесться на раскладных стульях
с провисающей на сиденьях тканью. Это узоры в цветочек.
Молчаливые подводные дачники, они разворачивают
ноты. Холодная вода вокруг, постанывающий катер
протаскивает за собой полную досок баржу. Они
начинают играть, обиженно выводя партии. Всегда
опаздывающая балерина озабоченно вытанцовывает
что-то на берегу, ловя доносящуюся мелодию. Она
как угорелая носится в спортивном костюме и подпрыгивает.
Рядом борт к борту стоят еще несколько позабытых
подводных лодок. Их черные длинные туловища
кажутся обглоданными. Сумасшедший переводчик
фальшивит и, зная об этом, морщится, сплевывает,
мигает. После окончания репетиции они выбираются
по сходням на берег, там окоченевшая балерина
натягивает на плечи платок и тянется к сумке,
где внушительный пузатый термос с чаем и бутерброды.
Раздаются первые еще редкие шутки. У кого-то под
плащом находится припасенная бутылка. Переводчик
потирает руки и принимает от соседа кружку с чаем.
Они пьют чай и по очереди глотают из бутылки,
благодарно расхваливая раскрасневшуюся балерину.
Ей наливают в отдельный стаканчик, и она выпивает
смущенно и счастливо отворачиваясь от галдящих
оркестрантов. К далекой автобусной остановке
они идут вместе, уже в темноте.
| Вернуться на главную страницу | Вернуться на страницу "Тексты и авторы" |
Книжная серия "Митиного журнала" |
Сергей Тимофеев |
| Copyright © 1997 Сергей Тимофеев Публикация в Интернете © 1997 Союз молодых литераторов "Вавилон"; © 2006 Проект Арго E-mail: info@vavilon.ru |