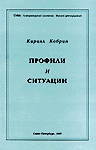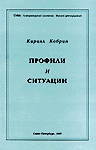В некрологе, напечатанном в "Вечерней Столице" (17.04.93), говорится следующее: "Прихотливый стилист и тонкий лирик, Николай Уперс уже занял подобающее ему место в истории отечественной словесности, и мы уверены, что он пребудет там всегда, по крайней мере, пока наша словесность будет существовать". Герой этого сочинения немало посмеялся бы над "прихотливым стилистом" и "тонким лириком", над двусмысленным "подобающим местом", над "пребудет там всегда" в смысле "и долго будет тем любезен он народу", над фонетическим бубнением "пребудет... будет", наконец, над внезапно возникшими сомнениями в перспективах вечнозеленой (от жажды долларов) отечественной словесности. Может, он и хохочет там, в кущах рая, или (худший вариант) в инстанциях чистилища, сочиняя примерно следующее: "Похотливый стилист и тонкий педик, Николай Уперс уже занял подобающее ему место возле параши отечественной словесности, у коей он пребудет быть, бздеть и блевать, пока вся эта весьма мелочная лавочка не прикроется".
Однако не будем осуждать незадачливого некрологиста, тем паче что нижеследующий текст не может тягаться с вечернестоличной статьей ни точностью и обилием фактов, ни теплотой и благородством тона. Разве что объемом. Впрочем, и цель нашей заметки лишена босуэловского размаха: автор только добавит некоторые небезынтересные фактики и вовсе неинтересные собственные рассуждения к прочувственному портрету "прихотливого стилиста и тонкого лирика".
Николай Алексеевич Уперс родился 23.08.1950 года в Москве. Его мать – Арнольдина Николаевна Прину – обладала столь туманной бессарабской родословной, что высветить ее in details смог бы лишь какой-нибудь кишиневский Карамзин. Отец – Алексей Михайлович Уперс – был сыном эмигрировавшего в 20-х гг. в СССР хорватского коммуниста Михайлы Уперца из Дубровника. М.Уперц служил в Коминтерне (отдел поощрения и развития революционного процесса в балканских странах и Румынии); А.М.Уперс (которому осторожный папаша на всякий случай слегка скорректировал фамилию в целях, надо полагать, маскировки от всевидящего ока разведки югославского короля Александра) – в том самом "Советском Информбюро", от чьего имени лил чугунные фразы Левитан (не художник); Коленька же Уперс получал жалованье от "Moscow News" за переводы на английский перлов отечественной контрпропаганды (обернувшихся позже – как для самой контрпропаганды, так и для отечества – перл-харборами). Да-да, несмотря на прискорбное должностное падение потомка блистательного коминтерновского чиновника, падение, достойное "Саги о Сарторисах", Николай Алексеевич был вполне "ничего": спецшкола английских уклонистов, загадочное учебное заведение им. Мориса Тореза (коего Уперс, по некоторым свидетельствам, обзывал "Морозом Торосом"), упомянутая гэбэшная газетка, наконец (выражаясь профсоюзным стилем) ненормированный (скорее в направлении нуля, чем бесконечности) рабочий день и хорошо оплачиваемый (в смысле, за минимум труда – не очень минимум денег) труд.
Его вполне благополучное существование омрачали всего два обстоятельства, две склонности: склонность к (официальным стилем) однополой любви и склонность к сочинительству. О первой не будем распространяться (хотя она наложила отпечаток на вторую: "Все эстеты – гомосексуалисты," – по чеканному определению Иосифа Франца Швейка), вторая же породила несколько поэтических сборников, отмеченных влиянием Анненского, Ходасевича и (увы! Анна Андреевна) Кузмина, а также изящную прозаическую книгу "Далмацийский Кюстин", вызвавшую в свое время восторг знаменитого ныне Милорада Павича. Вся эта продукция была, как и положено, до известного срока опубликована Там ("Кюстин" добрел даже до Анн Арбор, Мичиган), а после известного срока печаталась Здесь в разного рода эстетских журнальчиках от "Источника" до "Курьера Новейшей Словесности". Были в биографии Уперса какие-то вызовы Куда Надо из-за его встреч с Кем Не Надо, но эти обстоятельства не следует (вслед за автором "Некролога") чрезмерно педалировать. С конца 80-х гг. Уперс вновь имел возможность демонстрировать свои выдающиеся переводческие способности в экзотическом совместном советско-кипрском предприятии – сие предопределило, что не отечественные, а германские врачи оказались бессильными перед его внезапным нефритом. На могиле Николая Уперса (где бы она ни находилась) рядом с крестиком стоит дата: 15.04.1993.
Вот общеизвестные факты. Но есть кое-что, ускользнувшее от внимания безутешного автора из "Вечерней Столицы". Через год после смерти Уперса вышел в свет (почему-то нижегородский) альманах "Urbi", включающий цикл Уперсовых возмутительно гомосексуальных псевдоанонимных стихов "Апокрифы Феогнида". Подборка эта сделана в типичном для нашей постмодернистской эпохи стиле – с обширным (чуть меньше по объему самого цикла) предисловием публикатора, занятого (в основном) собственными стилистическими пробелами, и с витиеватым комментарием того же пошиба, автор которого спрятался за псевдоним, состряпанный из симметризированных инициалов одного литератора царских кровей. "Апокрифы" привлекли определенный (чаще – вялый) интерес нескольких рецензентов. Георгий Чиж (газета "Половой" – орган нижегородской фирмы "Русский Трактиръ") откликнулся гневной статьей "Такие вот нынче апокрифы..."; радиостанция "Освобожденная Евразия" устами Егора Жмуркевича сдержанно похвалила стихи усопшего автора, а критик З.Медноухов ("Независимые Новости") в очередной своей рецензии на очередной номер "Urbi" посетовал, что под именем Феогнида не выведен какой-нибудь антисемит, например, Солженицын. "Это, – пишет рецензент, – делает альманах безнадежно провинциальным".
"Апокрифы Феогнида", напечатанные в "Urbi", безусловно, хороши, но дело в том, что упокоившийся Уперс сочинил их в объеме в два раза большем, чем это представлено в волжском альманахе. Нет смысла обвинять публикаторов в небрежении отсутствующей последней волей отсутствующего ныне автора. По своему разумению они создали, так сказать, "первую редакцию" "Апокрифов" и вписали ее (пусть петитом) в ту самую "историю отечественной словесности", о которой волновался некрологист. Дай ей (словесности) Бог здоровья и счастья... Нетрудно догадаться: оставшаяся половина стихов составит "вторую редакцию". О ней и пойдет речь ниже.
Из разбора отвергнутых стихов складывается убеждение, что они есть недурной сюжетный цикл (может, рукою публикаторов водил Уперсов перст?), отличающийся от своего более счастливого собрата некоторой пляжностью, что ли, каникулярностью. Тема – та же: некий Феогнид и мальчик Кирн. И всё, из сего обстоятельства вытекающее ("Из кого и что там у тебя вытекает?" – кольнет меня загробного металла шпилькой Уперс). Но вот действие погружено в определенный контекст, приятный такой контекстик южного берега Крыма последних десяти лет жизни СССР. Не случайно. Не представить (почти) сих захватывающе-выхватывающих сцен засаживания где-нибудь в спальном районе Перми, в гнилой ноябрь, когда горячая вода в трубах остыла в 287 метрах от ТЭЦ, когда за окном – серь, на улицах – срань, на душе – сирь. Не представить. Для аттического маскулинного счастья истома должна быть сладкой, пот – сияющим, душ – работающим, солнышко – сверкающим. Вот шел однажды Платон по Афинам и заметил изящно сложенную поленницу дров. "Что за человек сложил так дрова?" – спросил основоположник идеалистической линии философии. Ему указали на (видимо, смущенного) ражего мужика. Платон взял его с собой. На обучение. Чем они там занимались – один Уперс знает, но мужичина оказался Ксенофонтом. Мораль? Вот вам. Было бы холодно, не имей Платон пайка от ареопага, не посмотрел бы он на совершенство форм поленницы, а, напротив, оное бы разрушил, прихватив с собой пару деревяшек, а не героя малоазийских войн. И не стал бы Ксенофонт автором "Киропедии", а без "Киропедии" не было бы Кирна, не было бы Феогнидова "воспитания Кирна", Уперс превратился бы в Персик, Персик превратился бы в Носик, Носик бы утонул в Шинельке, Шинелька скуксилась бы в Тулупчик (заячий). А тулупчик – одежда зимняя, пермская какая-то. Да-да, прожорливый социально-географический контекст, чавкая, пожирает хрупкую эротическую суть, и нам ничего не остается делать, как сочинить эдакий советский лесбос-патмос, ну, я не знаю, скирос, там, или наксос какой-нибудь. Неважно. Роль этого мелкоостровчатого эгейского кайфа играет для российского сочинителя любая всесоюзная здравница на Юге: жолтая Ялта, неприличная Алупка, бордельный Коктебель, наконец, вовсе греческий удовищный пригород потемкинской военно-морской деревни – Херсонес (кажется, что, переведя с эллинского "Херсонес", мы получим "Конотоп". Почему?). "И я был в Аркадии" – эту фразу можно выбить на памятнике любого совписа, некогда оттянувшегося по литфондовской путевке в Крыму. Да что там совпис! Сию Аркадию завоевал хилый русский ахилл Суворов; в нее, в нее переселял чичиковских зомби российский Гомер, сидя в итальянском далеке. А тот, который "наше все", не в каменистом ли сердце Тавриды разыграл фонтанную love story? Не там ли русский Леконт де Лиль, барбудос Вакс Калошин, парил над схваткой, устраивал культурный отдых Олимпу отечественной словесности, превратил бедную Лизу в Че Рубину? Я уж не говорю о бестселлере лучшего прозаика журнала "Юность"...
"Крымскость" – вот эссенция, которую расчетливый Уперс (по капле!) добавляет в тепловатую газировку типичных любовных ситуаций. Ну что, скажем, интересного, когда слегка увядшая аспирантка мордовского университета (специальность – русский язык в национальной школе, муж, двое детей) потным мисхорским вечером отдается молоденькому рихтовщику из Уфы? Фразы? Позы? Нет-нет, коитус самый банальный, я бы даже сказал – кондовый, но вот их, наших любовников, оголенность не от плавок и бикини, а от привычных социальных, сексуальных, национальных и т.д. связей делает то, что было до, и то, что делается, и то, что будет после (т.е. не просто "каждая тварь грустна после соития"), неким экзистенциальным всплеском, минитрагедией актеров из хора (да простят меня эллинисты), тем, что называется "курортным романом", авантюрой, дерзким набегом на Барсуковку, летальным лётом Лилиенталя, внезапным заплывом топора через Босфор, опьянением от глотка кефира. И не важно, что на туристском советском Юге "курортный роман" был неизбежен, как нынче православный поп на презентации; "курортный роман" каждый раз таит свою особую искру, свой оттенок: от голубого до розового, пусть источник сих искорок один – и вы понимаете какой...
И пусть то будет рихтовщик с аспиранткой, адвокат с вагоновожатой, балерина с боксером, дама с собачкой, дама с дамой или собачка с собачкой – искры всех возможных цветов влетают в бархатную южную ночь под заезженную фонограмму охов, чмоков, визгов, постанываний и поскрипываний, шороха простыней и ритмичного виолончельного соло панцирной сетки. А хищный Уперс сидит себе упырем на том шоу и высматривает искорки одного лишь оттенка. Голубого.
"Голубизна" уперсового сочинения – сюжетный прием, позволяющий возвести "крымскость" в квадрат, ибо гомо-, по отношению к гетеросексуальности, есть в нашей культуре, так сказать, каникулы, временное бегство от постылой обязанности любить обрыдших Татьян, Анн и Лиз. Ну что еще хорошего о них можно написать?
Проницательный читатель, верно, уже в нетерпении грызет ногти, готовясь гулко пульнуть в меня кособокой фамильей одного отнюдь не кособокого стилиста. Так и есть. Пульнул. Конечно, любовь к нимфеткам при таком коленкоре покруче будет презренных маскулинных утех. Но, любознательный мой, Вы заблуждаетесь, если считаете, что утерли нос покойному Уперсу. Не так-то просто. Да и нос у Уперса с репу.
"Памяти Долорес Скиллер" – красуется на редакции "Апокрифов Феогнида", напечатанной в "Urbi". Хитроумный Уперс отыгрывает (из могилы) мяч обратно. Увернитесь, либо отбивайте. Вспомним роман Набокова. Там всех жалко и все умирают: и Куилти, и Лолита, и сам Гумберт Гумберт. В "Лолите" любовь несчастливая, так как у Набокова счастливой любви быть в принципе не может, ибо для него эстетически важен процесс желания, вожделения или (реже) воспоминания. Состоявшаяся любовь оборачивается запахом вареной капусты и пачулей, наливается жиром, вроде того, как костлявый Сирин превратился в толстяка Набокова (счастливо окольцевавшись с Верой); не зря он поменял худые вертикали букв "и", "р", "н" своего псевдонима на округлые "а", "б", "о", "в" родовой фамилии. Ганин счастлив воспоминаниями юношеских шашней с Машенькой, счастливо переживает будущие, но оную Машеньку на берлинский вокзал встречать не едет и (подпоив настоящего встречальщика, т.е. поступив по сенно-собачьему принципу) тем самым оставляет ее, смазливую совбарышню в пальто от Москвошвея, в ужасе пялиться по сторонам в окружении паровозного шипа и гавкающей басурманской речи. В "Даре" как бы счастливый роман не достигает завершенности – герои явно собираются под занавес заняться любовью, но... из-за обложки выглядывает еще худой Сирин, кажет им язык и заправским шоферским жестом подбрасывает в руке ключи от квартиры, в которую несколько наивно направляются Федор Константинович и Зина.
А что же "вторая редакция" "Апокрифов"? Уперс живописует любовь явно счастливую, состоявшуюся. Собственно говоря, ублаженный Феогнид мурлыкает весь цикл (ожидая новых ублажений), жмурясь на теплом южном солнышке:
Кирн, люблю, когда, соскользнув с дивана,
Ты летишь к столу в промежутке между
"ах" и "ох"...
Или:
Ни к чему метафоры, отрок: раем
твоим, отзывчивым, твердым, тронут.
Или:
Можно даже сказать, что Уперс сочинил некую "антинабоковиану" или (взяв карту иного масштаба) провел обморочно наглый рейд по тылам Русской Литературы (прошу прощения за двусмысленный "рейд по тылам"): в образцовом русском произведении любовный роман завершается коитусом; если же это событие происходит в начале (крайне редко) или в середине (как в "Бедной Лизе" или "Анне Карениной"), то герои все оставшиеся страницы жестоко расплачиваются за свою поспешность. Впрочем, чаще всего коитуса так и не происходит. "Я другому отдана".
Но не таково Уперсово сочинение. Оно действительно каникулярно: во-первых, потому что температура воздуха в Феогнидовой Аркадии не падает ниже +25о по Цельсию, и герои резвятся на крымской гальке (но не на Гальке, о чем наше "во-вторых"); во-вторых, потому что "Апокрифы" форсированно гомосексуальны (безумные проделки школьников в первые недели июня); в-третьих, взяв отнюдь не академический отпуск в деканате отечественной словесности, автор заставляет Феогнида и Кирна трахаться до, внутри и после хронологических рамок своего опуса. Наконец, в-четвертых. Написав "Апокрифы", Уперс сам отправился в бессрочные, самые бессрочные каникулы. И, если верить Сведенборгу, он сидит сейчас Там и сочиняет "третью редакцию" своего последнего произведения.
Кирилл Кобрин
|