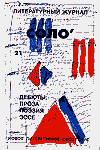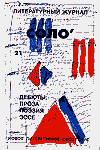Когда одна (м-м, да...), как трибунал,
меня почти приговорила к вышке
лет в тридцать семь, читатель, я слинял
с той КПЗ. Кричали вслед братишки:
"Стой! Лжец ты, а не жрец! Ты не догнал! -
Клади свои в крови мозги и кишки
последних строк!" - Друзья, идите в кал! -
я отвечал, - и с вами - ваши книжки.
(О книжках, кстати, тут уж раз сказал
один пахан. Но то - его делишки).
Видать, в зачет, видать, за то прощен,
что вызнал тут: бывает грусть такою,
что в зависть всем, кто верно обращен,
и тем - ботаникам средневековья,
и щелкоперам, любящим трещот,
мог сам без промаха нажать рукою
там, где взлетев уже, душа еще
в никчемном теле плющится, чтоб кровью
подпачкивать схоластики расчет.
(Так в те деньки мне думалось порою.)
"Куда ж нам плыть..." Да нет! Куда бежать?
Куда б смотать себя, как провод тонкий?
(В пень тонкость!) Если уж пришлось ступать
в мир этих лет болотистый и топкий, -
где вплавь, где вброд, - так, эдак... Вот ведь, гать
и до сих пор не кинули... Подонки!
И сколько ж это ртом тут ночь хватать?
И вместо титек Таньки или Томки,
хвататься, вдох пытаясь удержать,
за этих рифм обломные соломки?
Базланят, будто в здешние леса
войдя, вот так мой друг плутал когда-то, -
брус для крыльца ли, спиц для колеса
искал, - и встретил - вроде как солдата,
иль беглого, иль зверьего ловца,
иль (со спины ж ведь) - черт ли шутит - брата?
(Одно навряд - пропащего отца.)
"Стой!" - Тот стоит... Окликнул (не без мата) -
так оборачиваться стал... Лиса
метнулась. Вон - ползет в прорешках вата...
Тут видит друг: нет у него лица!
(Конца не видно - там пола бушлата.)
И мчался друг, крича, не чуя ног, -
пульс колотился залпами орудий
всех тех, когда войны российский бог
вершит свое одно из правосудий,
(теперь грозя все больше - на восток,
что, очевидно, не меняет сути).
Так мчался в ночь, топча траву, песок,
еще быстрей, чем я к той самой Люде.
Вдруг - как во тьме окно - там огонек.
Чуть успокоился, и понял: люди!
Теперь о ней. Залезла в интернет.
Хоть я бы лично по такой погоде
с ней предпочел бы в койку. Так ведь нет!
Меня прокинув, как какой Мавроди,
сказала: "Чао! Но дать хочу совет:
меня забудь, проветрись на природе,
глядишь и выдашь нам - что там - сонет?
Иль - на худой конец - попробуй в оде..."
(Хоть я бы лично предпочел минет.
Иль что-нибудь другое в том же роде.)
Вот кончу опус. Что мне делать с ним?
Ну, в смысле - с опусом? Язык (тьфу!) сочен,
да не приличен, - скажет господин
знакомый критик, - рифмы строй не точен,
не в лад стоит (опять!) вопрос. Басин-
скому давать (блядь!) и не стоит. Впрочем,
как на журфиксе мне сказал один
(который правда сильно озабочен):
"бывает, что и критик - не кретин".
(В чем я, конечно, сомневаюсь очень.)
Литературы душные пары -
как флирт на кухне у М. Айзенберга.
А я, видать, навек раб той поры,
когда от Кушки вплоть до Кенигсберга -
по городам на площадях костры...
дым кухонь полевых... и Вера-Верка -
со мной, чтоб мне дарить свои дары -
звезд дырочки и проч. Нам с нею дверка
открыта верх. Ведь мы внутри игры:
последний раунд эпохи Гутенберга.
Итак, к костру чужому вышел друг.
Там были люди. Пахло жженной паклей,
чем-то еще. Смиряя свой испуг,
присел, стал сбивчиво им бормотать, мол, враг ли,
монстр в чаще там, - но, блин, безлик он! Звук
смешков мышиных пробежал. "Не так ли?" -
сказал один, рукой провел, и вдруг
исчезли лица у людей. Иссякли,
словно вода. Тогда замкнулся круг.
Так умер друг. Финита в ля-спектакле.
Неужто ж, ночь, так собственной рукой
жизнь, словно уже треснувшую чашку
мою смахнуть решишься? Боже мой! -
не буду врать: мне очень страшно. Бражки
хоть бы залил в меня друган какой!
(Да все окрест - хмыри и чебурашки.)
Где Леха... Саня... Серый... Вадик... В бой
тот вышел весь, тот отбыл в каталажке.
И я иду один по мостовой.
И по спине моей - толпой мурашки.