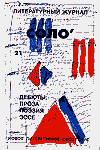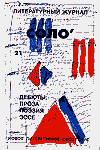СТЕПЬ
Анна шла по степи, полускрытая травами, которые доставали ей до пояса. Сухой жаркий ветер бил прямо в лицо, вздымая темные кудри надо лбом и заставляя прищуривать глаза.
Большая черная птица, широко раскинув крыла, летела ей навстречу, высматривая добычу. Пахло теплой землей, полынью, тысячелистником. День, вызолоченный августовским солнцем, - пылинка в масштабах времени и пространства - тем не менее имел в них свои координаты. Был полдень 2 августа 1965 года.
Анна подошла к дороге, сизой стрелой летящей к горизонту, и, прежде чем ступить в клейкую асфальтированную колею, присела рядом с ней под невысоким деревом, почти не дававшим тени.
Никто не догонял и не преследовал ее - ни рыжий похотливый самец, которого она должна была называть Александром Александровичем, ни хулиганистый, непредсказуемый Юрка, ни старая директриса, с ее подозрительным взглядом - было уже, или еще не было?
Анна закрыла глаза и прислонилась к тонкому шершавому стволу. Что скажет она матери, когда явится домой? Как объяснит свой уход из лагеря, где должна была оставаться еще несколько дней? То, что случилось с ней, было нелепо и стыдно одновременно. Только он и она будут знать подробности вчерашнего вечера. Только он и она. Пусть только он проговорится, пусть только...
Пальцы Анны сжались в кулаки и она застонала от гнева, бессилия и невозможности ничего изменить.
Она заставила себя подняться и пошла по дороге в сторону, противоположную югу, к большой, ленивой и сильной реке, через которую когда-то ходил паром. Заслышав шум мотора, Анна уходила с дороги и пряталась в негустой поросли, тянувшейся до самого берега. Три маленьких озера с темной, жутковатой водой, поросшие желтыми кувшинками, предвещали близость конца ее пути. Ключи били на их дне и поэтому вода в озерах была всегда холодной, почти ледяной, несмотря на любую жару.
На берегу реки, песчаном и пустынном со стороны степи, кроме нее никого не было и ей долго пришлось ждать катера.
Противоположный берег был крут и высок. В густой зелени садов здесь и там виднелись крыши невысоких домов. Улицы начинались от самой воды и терялись где-то высоко, за холмом. Небольшая каменная церковь, выбеленная белоснежной известью и увенчанная высокой колокольней с крестом, гармонично вписывалась в окружающий пейзаж. Рядом с оградой ее, почти у самой воды, был виден большой старинный дом, служивший когда-то почтовой станцией. Стены и крыша его когда-то служили приютом великому Пушкину.
Впервые за время пути губы Анны сложились в улыбку, глаза потеплели и из холодных стальных стали просто серыми. Анна была молода и молодость ее была тем козырем, который бил любую черную карту.
Сумерки обволакивали окрестности дымчатой пеленой и сады казались гуще и темнее, когда Анна подошла к своему дому и ступила на теплые, отполированные ногами плиты, которыми был вымощен двор.
Дома было тихо и прохладно. Сквозь полузакрытые ставни проникало так мало света, что в комнатах царил полумрак. Полы были вымыты, в проемах окон едва шевелились белые накрахмаленные занавески. Анна с удивлением заметила, как хорошо и уютно стало в доме.
Из беседки за домом были слышны голоса, значит мать была не одна и можно было не опасаться длинного нравоучительного разговора.
- Пронесло, - с облегчением подумала Анна, - слава богу, пронесло.
В беседке, увитой виноградом, за столом, уставленным закусками, сидели мать и незнакомый Анне смуглый, черноволосый мужчина, похожий на цыгана. Возле начатой бутылки вина стояли два пустых стакана. Мужчина курил, а мать смотрела на него такими влюбленными глазами, что Анне стало не по себе.
- Анечка, познакомься, доченька, - это дядя Петя, - сказала мать, ничуть не удивившись ее появлению.
Дядя Петя встал и протянул Анне сильную загорелую руку и крепко пожал ее маленькую ладошку.
- Ты не сердись, дочка, - сказал дядя Петя, подвигая Анне табуретку, - мы тут с твоей матерью решили, что мужчина в доме вам никак не помешает. - Да и любовь у нас - давняя любовь, - усмехнулся он.
Мать, смотревшая на него, покраснела и отвела глаза в сторону.
Обильно политые теплой водой, пахли петуньи, склоняли красивые, гордые головы георгины. Белыми, фиолетовыми, красными пятнами казались астры на темно-зеленом фоне влажных листьев.
Рядом с первою яркой звездой появилась вторая, потом третья, и еще, и еще одна.
День второго августа 1965 года закончился, подходил к концу и вечер этого дня, дня, который Анна провела в пути. Дня, который сделал ее взрослой.
В винограднике, посаженном отцом Анны, на железной кровати, поверх досок, застеленных ватным одеялом, спали теперь дядя Петя и мать. Анна и ее прабабушка - семидесятилетняя, слегка сгорбленная, но на удивление фигуристая старуха, с крючковатым носом и вредным характером, спали в доме.
И мать и отец Анны были несчастливы в браке, расходились несколько раз, затем сходились опять, мучая и себя и Анну, любившую их обоих.
Отец Анны - высокий, худой, горбоносый мужчина, вернулся с войны с многочисленными рубцами от ран на теле и орденом Красной Звезды на застиранной гимнастерке. Был он вспыльчивым, нервным, буйным во хмелю, но балагуром и весельчаком одновременно. Пил так, что глаза становились стеклянными и бесцветными, не узнающими ни жену, ни дочь. Умер отец Анны от рака желудка, страшными муками расплачиваясь за выпитые стаканы водки и выкуренные папиросы. Перед самой смертью успел достроить дом, в котором жили сейчас Анна с матерью, и посадить возле него виноградник на жесткой, глинистой, красноватой земле.
Дядя Петя и мать Анны работали вместе на одном заводе.
Высокий, видный, с огненными черными глазами и пустой штаниной, заправленной под ремень, он ходил по дому, опираясь на костыль, а мать не сводила с него глаз.
- Люблю я его, - говорила она Анне, - и столько выстраданного было в этом "люблю", что Анне становилось жутко. Разве она такая - любовь? И как можно любить в их возрасте, когда обоим далеко за 40?
В сентябре, когда стали желтеть и осыпаться листья, мать и дядя Петя перешли жить в дом, и шестнадцатилетней Анне, и старой бабе Дуне, да и им тоже, стало неуютно и тесно в маленьком двухкомнатном доме.
Так прошла зима, и весна, и наступило новое лето.
И мать уже не говорила - люблю его, а все больше молчала. Все чаще уходил куда-то дядя Петя, иногда не показываясь в доме по нескольку дней.
А у Анны была своя жизнь. Она заканчивала школу, и первая, детская любовь ее, которую и любовью-то можно было назвать с натяжкой, так как любила она, а он или не замечал ее любви, или не хотел и не мог на нее ответить, тоже заканчивалась. И ей становилось тревожно иногда - что с нею будет дальше, как она будет жить в этом огромном, пугающем, неизвестном мире. Она стала задумываться о жизни и смерти, и однажды ночью впервые ужаснулась, что ее когда-то не станет, что она умрет, как умерли ее отец и бабушка, и некому будет вспоминать ее.
При всей любви к матери, Анна не была с ней откровенна, и все, что ее мучило в те дни, носила себе.
Потом наступил июнь с его теплыми дождями, цветущими травами и дивно пахнущими розами - белыми, дикими, облепившими колючие ветки.
Наконец Анна получила аттестат, в котором были почти одни пятерки. И была она золушкой на школьном балу, в своем скромном белом шелковом платье, сшитом ею самою, в окружении таких же золушек. Из всех выпускных классов ее класс ей казался самым лучшим, самым замечательным. Рассвет она встречала на мосту над Доном рядом с бездействующим паромом, и причалом, с едва различимым в тумане катером возле него. Катером, привезшим Анну из степи год назад.
Весь июль Анна учила немецкий, так как решила стать переводчиком. Ей хотелось много путешествовать, узнать иной мир, иных людей. И "немка", узнав о том, что Анна поступает в Инъяз, очень удивилась, так как не находила, что у Анны есть большие способности - на уроках Анна явно не блистала.
В конце июля Анна уехала в Таганрог, сдавать экзамены. Ходила на консультации в институт; сидела у моря, не похожего на настоящее море, заросшего водорослями, покрытого тиной и дурно пахнущего у берегов. А сердце ее ныло и ныло, и рвалось куда-то, и неслось бешеными скачками.
В сумерках, перед первым экзаменом, Анна села в электричку и поехала домой, по степи, залитой вечерним светом. Что гнало ее туда, домой, ведь завтра начинались экзамены и решалась ее судьба? Рок - скажет она потом.
Была ночь. Небо было черное, без звезд и без луны, так по крайней мере ей запомнилось. Было тихо на улице и во дворе. В комнатах было мрачно и душно. Баба Дуня спала на кровати возле печки. Из-под другой кровати, в передней комнате, послышался стон и Анна увидела на полу безжизненно откинутую руку, белую и бескровную. Анна наклонилась и увидела мать - полумертвую, с закрытыми глазами. Она стала поднимать ее, но тело матери было тяжелым, обмякшим и горячим, как кипяток. Анна бросилась на улицу и увидела дядю Петю.
- Скорую, скорую! - выкрикнула она и побежала обратно в дом, где уже задыхалась ее мать.
- А... А... - вырвалось из ее посинелых губ.
Что она хотела сказать Анне? Что она хотела сказать ему, человеку, стоявшему возле кровати на костылях и отводящему взгляд от ее распластанного беспомощного тела?
Когда врач скорой помощи сделал укол, из крошечного отверстия на руке вместе с лекарством потекла струйка темной, почти черной крови - тело умирающей ничего больше не принимало.
Мать Анны умерла утром, в семь часов, когда уже поднялось солнце и заглянуло в окна, как в пустые глазницы. Она выпила клей, которым на заводе склеивала детские игрушки, сразу после отъезда Анны.
А через два дня были похороны. Было жутко и тихо во дворе. Толпы людей заполнили улицу. Потом гроб подняли, понесли, и Анна закричала так, что заплакали все женщины, и мужчины вытирали глаза, не стесняясь. Кого им было жальче - мать ли, ушедшую так рано и так нелепо, дочь ли ее, осиротевшую окончательно, или старую бабку, гладившую внучку по голове и все зовущую: "Вставай, доню..."?
Были там, в толпе провожающих, и дядя Петя, и он, тот мальчик, ее первая любовь, жалеющий ее сейчас больше других, но который ничем не мог помочь ей сейчас, в эти минуты. И были там все, кого она помнила с пеленок, - и одноклассники ее, и преподаватели. Много, много людей, никто из которых не мог ей помочь.
- Да разве такая она, любовь? - спрашивала у себя Анна и не находила ответа. Только губы матери на спокойном, умиротворенном лице, казалось, были сложены во всезнающую улыбку.
Через два дня Анна, одетая в черное, была в институте, и какая-то женщина все повторяла ей, что экзамены уже идут, и что ради нее, Анны, комиссию собирать никто не будет, и что пусть она приезжает на следующий год, если еще не передумает.
Анна вышла из института, чтобы никогда уже туда не вернуться. Она не станет переводчиком, не станет и учителем, как мечтали ее родители. Нелегким трудом она будет добывать свой хлеб, хлеб, на который так часто у нее не будет хватать денег. У нее будет своя дорога, не такая прямая и ровная, что летела стрелой через ту, августовскую степь. Ее дорога будет такой длинной и извилистой, что в конце ее, оглянувшись, Анна уже не увидит ее начала.
СНЕГ
Четвертый день шел снег. Большие белые хлопья его то кружились, подхватываемые ветром, то летели тихо и спокойно, и тогда небо слегка светлело и становились яснее очертания гор, белоснежных и величественных, и, казавшейся игрушечной по сравнению с ними долины, в середине которой протекала река с темными, но прозрачными водами.
Анна стояла у окна за густым тюлевым занавесом. Большие светлые глаза ее, полускрытые длинными ресницами, оживляли смуглое тонкое лицо, обрамленное темными, слегка вьющимися волосами. Большой серый платок из козьего пуха, накинутый поверх ночной рубашки, укрывал высокую, по-девичьи тонкую шею, плечи и маленькие руки, такие же смуглые, как лицо.
Ничто в доме не нарушало тишины. Часы тикали надоедливо и монотонно, как капли, падающие в воду: тик-так, кап-кап...
За пять лет, которые Анна провела в этом доме, она так и не смогла привыкнуть к этому прекрасному, но чужому для нее уголку земли, давшему ей приют, к крыше и стенам, укрывавшим ее от снега и дождя в непогоду, к людям, и говорившим и мыслящим по-иному, чем она.
Ей было тридцать два года, когда Георгий привез ее сюда, в свой заснеженный Долинск. Она помнит настороженность, с какой ее приняли здесь, в этом доме, и оценивающие взгляды мужчин, и любопытные - женщин: кто она, чем так покорила их Георгия, почему всех девушек, которые бы с радостью ответили ему согласием, он предпочел этой молодой русской женщине, ничем не примечательной, с неизвестно каким прошлым, у которой и приданного всего-то чемодан белья.
Потом интерес к ней постепенно пропал - столько в доме своих забот! - и к Анне привыкли, как привыкают к деревьям, покрывающим горные склоны, к траве, зеленой и сочной весной и буро-желтой осенью. Люди ко всему привыкают, даже к тому, к чему не лежит у них душа.
Георгий был невысоким, но красивым мужчиной. То пылким и горячим, то тоскующим без причины и рвущимся неведомо куда, - таким запомнился он Анне. Он привез ее сюда осенью, а весной, едва только сошел снег и обнажились горные склоны, рассчитавшись с работы и оставив ей этот большой старый дом, сложенный из серого камня, уехал в чужую, такую же горную, как его родина, страну, где шла война. Уехал и не вернулся. На все запросы, посылаемые Анной, ответ приходил один и тот же: пропал без вести. Никто больше не видел его ни живым, ни мертвым.
Четыре года ждала его Анна, безропотно снося свое одиночество. То ли мужняя жена, то ли вдова, она не одевалась в черные одежды, не оплакивала его, не поминала в молитвах, как умершего.
Снег, снег, куда ни глянь - всюду снег. Пятая длинная зима... Длинная, длиннее не бывает. Она перестала ждать Георгия уже прошлой зимой - и какою бесконечно долгой была та зима! Но тогда еще была хотя и маленькая, но надежда, а сейчас сердце ее молчало, и ничего не предсказывало ей, и ничего нельзя было разглядеть за этой снежной пеленой - ни прошлого, ни будущего. Снег покрывал долину, как белым саваном, а вместе с ней и ее, Анну, тридцати шести лет от роду.
Звук открываемой двери заставил ее вздрогнуть и отойти от окна. Послышались тяжелые грузные шаги за стеной и шум сбрасываемых дров возле печки - круглой металлической голландки, половина которой обогревала ее большую комнату с тремя узкими окнами. Двуспальная кровать возле стены, завешанной тяжелым красным ковром, с льняными простынями на ней, напоминала большой белый айсберг. Стол и несколько стульев стояли в простенках между окон.
Свекор появился в доме недавно, осенью, после того, как ушел от второй жены. Мать Георгия умерла рано, а мачеху свою он не любил, поэтому Анна видела ее только один раз, в этом доме, в тот самый день, когда она приехала в Долинск. Старики жили в другом поселке. Какая черная кошка пробежала между ними и Георгием, Анна не знала, но больше к молодым они не заглядывали.
За все годы, что Анна жила одна, свекор заходил сюда всего несколько раз - нарубить дров осенью. О Георгии он ее не спрашивал, словно точно знал, что сына нет в живых... Анне, вначале обрадовавшейся, что в доме есть еще одна живая душа, становилось все труднее жить со свекром под одной крышей.
Отец Георгия был пожилым, но крепким еще мужчиной. В дом он вернулся хозяином, и теперь Анна чувствовала себя неуютно под колючим, цепким взглядом свекра. Вернувшись с работы и приготовив ужин, она звала его к столу, а помыв посуду, старалась уйти скорее в свою комнату. Сквозь тонкую перегородку ей было слышно, как он подкладывал в печку дрова, а потом долго ходил из угла в угол. О чем он думал длинными осенними вечерами, Анна не знала. Потом в доме все стихало. Раздевшись, Анна ложилась в широкую белую постель и долго лежала с закрытыми глазами, мучительно стараясь уснуть.
- Отче наш, иже еси на небеси, - повторяла она слова молитвы, запомнившиеся с детства. Слышал ли Он ее? Наверное слышал, потому что, прошептав последние слова, Анна всегда успокаивалась и погружалась все глубже и глубже в черный омут, называемый сном. Иногда ее мучили сновидения - странные, очень похожие на явь. Сон обрывался внезапно, со звуком будильника, и она возвращалась из небытия, из фантастического, несуществующего мира, где скиталась бесплотной тенью между другими, такими же тенями. Это была репетиция смерти, и она повторялась так часто, что сама смерть уже не так пугала ее, как в юности.
Свекор, поднимавшийся раньше Анны, за стеной растапливал печь, и когда она выходила умываться, чайник уже закипал на веселом огне, приветствуя ее тонким свистом.
Анна раздвигала занавески на окнах и смотрела, как таял диск луны в голубом уже небе. Был он прозрачно-белым и еле светящимся. Оранжевая ослепительная полоска на горизонте становилась все шире, пока, наконец, из нее не показывался диск солнца. Сначала был виден верхний полукруг его, затем и весь он, освобожденный от розового плена, как бы отталкивался от своего пьедестала и поднимался все выше и выше.
В восемь часов Анна была в санатории, где работала медицинской сестрой в кабинете физиотерапии.
Струйка песка бесшумно пересыпалась из одной стеклянной колбы в другую; входили и выходили люди, то здороваясь, то говоря: "До свидания!". И Анна отвечала им вежливо "Здравствуйте" и "До свидания", занося их фамилии в книги, кого-то запоминая, кого-то нет. В те редкие минуты, когда в кабинете никого не было и она оставалась одна, Анна подходила к окну и опять видела лежащую внизу долину, и поселок за рекой, как бы в туманной дымке, с игрушечными домами, каменными, за каменными оградами; и горы вдали - то зеленые и голубоватые, то черно-белые, в зависимости от времени года.
Весною долина внизу, по эту сторону реки, становилась нарядной. Желтые и красные квадраты, обведенные голубыми полосами, были ни что иное, как поля нарциссов и тюльпанов, окруженные голубыми елями, которые выращивали для продажи, вывозя их по ту сторону гор. Молочно-белые, дивно пахли яблоневые сады в апреле, яблоки в которых тоже, в основном, предназначались для продажи.
Местные жители, за редким исключением, были мусульмане и жили по своим законам. Не в диковинку было здесь и многоженство, которое запрещалось официально, но запреты эти умели обходить столь искусно, что никакого шума вокруг этого не возникало. Бунтовала, да и то недолго, первая, старшая жена, с которой муж, перед тем, как привести в дом молодую, официально разводился, но которая оставалась жить в одном дворе с "молодыми", обихаживая и своих и чужих. Анна видела однажды, как плакала немолодая уже официантка Роза - черноглазая, высокая женщина с черными, тяжелыми косами, в которых еще не было ни одного седого волоса. Ее подруги стояли рядом, говоря гортанные непонятные слова на языке, на котором Анна говорить так и не научилась. Около месяца Роза ходила с заплаканными глазами, хмурая, а посуда так и валилась из ее рук. Затем лицо ее просветлело, мешки под глазами разгладились и можно было увидеть улыбку на ее губах, свежих и розовых, не знавших помады.
Ни друзей, ни подруг за годы жизни в Долинске Анна так и не приобрела. Знакомые, сослуживцы, соседи, мужчины, которые делали ей иногда гнусные предложения или отпускали ничего не значащие комплименты, - что знали они об Анне, о ее прошлой и настоящей жизни? Каким холодом веяло на нее от белых каменных стен, от гор, покрытых снегом! После работы Анна заходила в магазин и шла затем по узкому навесному мосту в поселок, обдуваемая ветрами или запорошенная снегом.
Заболела она внезапно, в самом начале зимы, когда и морозов-то еще не было. Сначала ей было холодно и зябко, потом жар опалил ее маленькое тело и голову. Сумерки все сгущались и сгущались и давили на нее, и не было сил пошевелиться и сказать что-либо. Молодая незнакомая женщина, вся в белом, иногда склонялась над нею и холодными тонкими пальцами касалась пылающего лба. Потом сознание ее прояснилось, жар спал, но тело оставалось таким же тяжелым, как раньше. С трудом Анна поворачивала голову к окну, смотрела на густую снежную пелену, и смотрела так долго, пока слезы не скатывались из уголка воспаленного глаза на кружево сорочки, мятое, в мелких дырочках и узорах, вышитых гладью.
Свекор входил, грузно ступая, и садился у изголовья кровати на стул, который жалобно скрипел под его телом. Он приподнимал худенькое тело Анны над подушкой и усаживал ее поудобнее, начиная кормить, как маленькую, медленно и терпеливо поднося ложку с бульоном или стакан с молоком к розовым, в коричневых корочках губам. Потом отбрасывал одеяло и, подняв на руки ставшее невесомым тело, опускал Анну на ведро, стоявшее рядом с кроватью, и ничего мучительнее, чем чувство стыда, которое она при этом испытывала, Анна не знала. Потом она снова лежала в постели, заботливо укрытая стеганым одеялом до самого подбородка, и тяжелый сон смеживал веки, унося ее в небытие. А ходики на стене все тикали и тикали, отсчитывая отпущенное ей время.
Через две недели Анна могла уже вставать и делать несколько шагов по большой, кажущейся незнакомой комнате. Еще через несколько дней сил у нее значительно прибавилось, и любимым занятием ее стало сидеть у окна, укутавшись в теплый платок. Мысли ее были созвучны круженью снега за окном, и то летели по кругу медленно и плавно, то смешивались вдруг в один клубок, подхваченные непонятным, тревожным вихрем.
Решение уехать, вырваться из этого белого плена не было неожиданным. Горы, прекрасные горы, то острогрудые, то волнистые ближе к долине, утомляли Анну своим величием.
Однажды, с Георгием, они поехали вглубь их, туда, где сужалась долина, превращаясь в узкий каменистый проход, сжатый с обеих сторон каменными истуканами. Едва заметные тропы бороздили отвесные склоны, покрытые изумрудной травой там, где на камнях сохранился слой почвы. У подножия склонов, по берегам реки, стиснутой каменным ложем, росли кусты кизила и боярышника, и других, незнакомых Анне растений. Еще выше поднимался лес, оплетая подножия гор ветвистой темно-зеленой сетью, угрюмый и мрачный лес, посреди которого Анна с удивлением увидела стены и купола каменного храма, давно заброшенного и покинутого. Кто и как его построил в таком недоступном месте, и когда он был покинут людьми, Анна так и не узнала, да и Георгий, родившийся в этих местах, об этом не знал.
Потом они стояли в кругу мужчин, охранявших туристическую базу, в которой почти не было туристов, так как до лыжного сезона было еще далеко, и Георгий вел непонятный для Анны разговор все на том же гортанном языке. Иногда кто-нибудь из мужчин вежливо обращался к Анне по-русски с ничего не значащей фразой и, внимательно выслушав ее ответ, снова возвращался в неторопливый круг разговора.
Ночевали они здесь же, на турбазе, в узкой, длинной комнате, кое-как уместившись на односпальной кровати, потому что спать отдельно Георгий Анне не позволял даже тогда, когда она болела по-женски и нуждалась в покое. Он ложил (клал?) свою тяжелую ногу на ее узкое бедро, охватывал шею руками, поправив разметавшиеся после любви волосы, и засыпал быстро, оставляя Анну лежать одну в темноте, наедине со своими мыслями, непонятными, а может и не интересными ему. Его привязывала к Анне чувственная сторона их отношений и духовного мира ее он не касался.
От Георгия пахло вином, травами и еще едва уловимым, одному ему присущим запахом. Он редко целовал ее в губы, а если целовал иногда, то поцелуи его были быстрыми, неумелыми, отбивавшими охоту отвечать на них. В ласках же Георгий был ненасытен и мог любить ее всю ночь, доводя до изнеможения и себя и Анну. Она насытилась им и не хотела другого мужчину. Пять лет после отъезда Георгия Анна жила одна, но в этот шестой год ее одиночества маленькое горячее тело вдруг напомнило о себе. Груди наливались, но некому было целовать их, тянуло в пояснице и внизу живота, чего раньше с ней не случалось.
Болезнь обессилила ее, но выздоровление приближалось, и надо было что-то делать с собою и со своей остановившейся жизнью, дать ей какой-то толчок.
Анна отошла от окна, взяла книгу с полки и легла на кровать, пристроив подушку повыше. Читала она долго, пока сумерки не начали вползать в комнату сквозь стекла, зарешеченные тюлем.
Света почему-то не было - электроэнергию отключали в поселке довольно часто. Вошел свекор и принес подсвечник со свечой и поднос, на котором Анна увидела графин с напитком, напоминавшим цветом кровь. Сыр, овощи и тушка цыпленка лежали на белом фарфоровом блюде рядом с кусками свежеиспеченного каравая.
- Давай, дочка, выпьем за твое выздоровление, - сказал свекор, протягивая Анне чашку с вином. - Пусть никогда больше болезнь не тронет тебя.
- Спасибо, - сказала Анна, - но, может, мне нельзя?
- Пей, пей, вино даст тебе ту силу, которую ты потеряла.
Анна выпила ароматное, тягучее, пахнущее травами вино маленькими глотками, постепенно чувствуя, как оно зажигает ее кровь и ударяет в голову. Цыпленок и хлеб были еще теплыми, а сыр душистым и жирным, как масло.
Мерцала свеча в темноте, освещая пространство возле кровати и поднос на табурете возле нее. В прямоугольники окон, с едва наметившимися узорами, похожими на оперение диковинных птиц, летел и летел снег, то прилипая к стеклам, то скользя по ним вниз. Торопились редкие прохожие, оставляя цепочки следов на белом и чистом ковре, расстеленном вдоль всей улицы. Лаяли собаки, встревоженные скрипом снега или звуком голосов. Все это осталось там, за стеной. А в комнате, на широкой двуспальной кровати лежала тридцатисемилетняя женщина, еще молодая и крепкая, и плакала так, как плачут в детстве - громко, навзрыд, не стесняясь, уткнувшись лицом в мокрую от слез подушку. Грузный мужчина, доводившийся ей свекром, торопливо натягивал на себя брюки, стараясь попасть в штанину волосатой ногой. Из опрокинутой чашки на поднос стекала винная струйка, липкая и тягучая, напоминавшая цветом кровь, которая одного цвета и у отца и у сына.
"Отче наш, иже еси на небеси,,,", - вспомнилось вдруг Анне, и она дико захохотала, испугав свекра еще больше, чем своим плачем. Он вышел, плотно закрыв дверь, и Анна слышала, как он одевается, как потом заскрипел снег под его ногами.
Стучало в висках, и ворот душил так, что хотелось разорвать его. Анна сняла ночную рубашку и надела свою лучшую кофточку, заправив ее в черную, слегка расклешенную юбку, сунула ноги в черные лайковые туфли на каблуке-шпильке. Зеркало, висевшее в простенке, длинное, узкое, овальное, смутно отразило ее лицо и фигуру. Анна расчесала волосы, уложив их набок, как в девичестве, заложив маленькие вьющиеся пряди за уши.
Тонкий лайковый поясок, подобранны когда-то в тон юбке и туфлям, коснулся горла, все тужа обхватывая его.
Поплыли лица перед глазами - любимые, полузабытые. "Отче наш... - опять вспомнилось Анне, - Отче наш..." - этой молитве учил ее отец, чье лицо увидела Анна так отчетливо рядом со своим, хотя тот и умер больше двадцати лет назад.
Пальцы Анны, подсунутые под ремень и уже онемевшие, напряглись и рванули его с такой силой, что он лопнул и вытолкнул ее из смертельного круга. Время, отпущенное Анне, еще не кончилось.
Маленькая женщина, закутанная в теплый пушистый паток, из-под которого выбивались колечки кудрявых волос, в меховом пальто и высоких кожаных сапогах, медленно шла по улице, занесенной снегом. В руке у нее была большая сумка, с какими обычно ходят на рынок. В ней было самое необходимое, что требуется человеку в дороге. Через несколько часов поезд увезет ее, Анну, на север, в степи, где она родилась и выросла, где покоится прах ее предков, где снег не такой тяжелый, и сугробы не такие глубокие, где из памяти сотрутся, со временем, и крик и смех ее, еще звучавшие в ушах, где она опять станет сильной и решительной, как в юности.
Поезд отходил от перрона медленно, прощаясь свистком с долиной и горами, окружавшими ее, но Анна не смотрела в окно. Глаза ее были закрыты. Вперед, вперед - стучали колеса. Она не будет оглядываться, она заставит себя не оглядываться на прошлое. Пусть оно покоится, занесенное снегом, в этой узкой долине, которую она никогда больше не увидит.
- Вперед, вперед, - прошептала Анна, и крепко сцепленные губы ее, впервые за несколько часов разжались, и разгладились морщины возле них.
Время, отпущенное ей, еще не кончилось, и это было сейчас самым главным.
"Соло", вып.21:
Следующий материал |