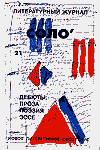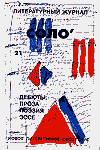...Мишаня Теребенков довез Мишу Банана до метро "Профсоюзная", откуда он, мающийся от нерешительности, поехал к Володе Исурину, позвонив предварительно по Мишаниному мобильному. Погано, очень погано было на душе, и даже образ желанного Таиланда представлялся тусклым и серовато-дождливым. Обед Миша пропустил, но таблетки с собой взял. Поднявшись по эскалатору на "Парке", Миша съел два острых буритос, положил в карман пакетик чипсов с паприкой и пошел, держа в руках бумажный стаканчик с пепси, изредка прихлебывая, через столь знакомый подземный переход. Сколько раз он нырял в него, не замечая ступенек в стремительности семнадцатилетней юности. На работу в МГИМО, где полгода служил гардеробщиком, но был выгнан за более чем систематическое пьянство, на учебу в Иняз, откуда был выгнан через семь месяцев (сначала из комсомола)... Если бы было можно сойти вниз на сорокапятилетних, еще крепких, но уже подержанных и стоптанных ногах, а вынырнуть с другого конца, скажем, в весну 1970 года, числа этак 25 апреля... Навстречу Банану шли явные студентки института, который Миша до сих пор считал родным, ибо именно там началось его высшее образование. Миша определял их безошибочно. Очевидно, alma mater все-таки накладывает свой особый отпечаток на всех, кто хоть какое-то время блуждал по лабиринтам толстостенного приземистого и в то же самое время удивительно изящного дома, об извилистости внутренностей которого заподозрить было ну никак невозможно.
Миша вспомнил, как стоял среди прочих построенных вокруг каменного обелиска подростков и повторял звуки студенческой клятвы, искренне волнуясь и стараясь выглядеть беспечным и на-все-наплюющим. Вспоминал он этот момент и тогда, когда было объявлено и о его исключении из комсомола, что автоматически означало в те времена исключение из "ликбеза". И вдруг, когда Миша уже поднимался по ступенькам, ведущим к белому зданию с "доской", сообщающей любопытному прохожему о том, что здесь в одна тысяча семнадцатом году какого-то числа происходили бои юнкеров с революционно настроенными гражданскими лицами, время щелкнуло и замкнулось. Миша вспомнил Джамму Сухебатор.
Как же давно это было... В общаге в Петроверигском переулке были устроены танцы с выпивоном. Играл какой-то ВИА, Банан, явившийся на мероприятие уже изрядно "нажбанившимся", носился по коридорам этажей, стучал в двери и спрашивал, не здесь ли живет придуманная им на ходу Нина Козлова. Этот экспромтный ход выпить на халяву срабатывал практически безотказно. Узнав, что "Нина Козлова" в данной комнате не живет и пьющие таковой не знают, Банан задавал следующий с первого взгляда вполне невинный вопрос: "А чего это вы пьете?" Получив ответ, он с наивно выпученными глазами брал в руки бутылку и начинал разглядывание давно и досконально изученной этикетки, хотя прекрасно знал крепость, содержание сахара и прочие элементы любого портвейна. Затем, безошибочно "интуича" обстановку и общий настрой, говорил что-нибудь из следующего: "У, бля, не может быть. 18 градусов? Да это десертное, больше шестнадцати не будет". И наливал стакан, четко чувствуя, когда надо остановиться, чтобы не вспугнуть уже насторожившихся из-за уменьшающейся дозы студентов. "Ну ладно, ребята, будем, как говорится, здоровы, дай бог, не последняя". Затем он, как бы продолжая разговор, сразу же наносил следующий удар по винным запасам противника: "А вот, бля, еще один охуительный анекдот..." Анекдотов Банан знал разнообразное множество по сериям, и довольно часто такая импровизация заканчивалась не только халявной выпивкой, но и съемом какой-нибудь симпатичной юной особы.
Так и в тот вечер танцев, устроенных по поводу какого-то советского праздника, Банан, уже солидно повеселевший, остановился на лестнице, чтобы высмотреть "герлу" посексапильней. И тут он заметил высокую, очень стройную красавицу азиатской внешности. С черными блестящими длинными волосами, раскосыми, но большими и еще более черными глазами и, что было для Банана самым главным, с длиннющими, стройными ногами, обнятыми расклешенными фирменными джинсами. Миша был сражен наповал и, разрубая толпу танцующих наподобие ледокола "Ленин", пошел на объект. "Разбив" ее от какого-то парня, бывшего заметно старше Миши, он тактично начал обычный треп, всегда с легкостью пузырьков "Советского полусладкого" поднимавшийся из недр разгоряченного Мишиного сердца. Главное было говорить, но еще главнее было с выражением заглядывать в глаза и как можно беспечней выстраивать порядок и качество соприкосновений различных частей тела. В этом процессе главное было забыть о цели всех этих почти ритуальных процедур - осажденная крепость должна была находиться в не совсем полной уверенности, что интересует Мишу в первую очередь ее тонкая и исключительно интересная уникальная личность, а уж потом, во вторую очередь, как бы невзначай, под крепость подводился подкоп в виде самого простого и незатейливого комплимента, звучавшего как простая констатация. Типа: "Слушай, а ведь ты такая красивая, нет, серьезно,.. ладно, ты и сама это прекрасно знаешь". Потом самым естественным тоном произносилась дежурная фраза: "А тебя ведь тоже сразу ко мне потянуло?" - полувопросительно, полуутвердительно.
Потом был конфликт с парнем, которого Банан так технично отсек от своей новой знакомой, назвавшейся Джаммой, - из Казахстана, наверное, подумал тогда Миша. Он одним безошибочным, легким, толкающим ударом спустил соперника с лестничной площадки, а потом они уже пили в буфете сухое вино (Джамма) и портвейн (Миша), и платила уже Джамма, так как оставшиеся у Миши четыре рубля залежаться дольше, чем на час, не могли.
Потом было что-то смутно-приятное, и еще позже утренняя мощная эрекция, властно зовущая Мишу в туалет. Полупьяный и еще не знающий похмелья Миша обратил, наконец, внимание на нестандартную для комнаты в общаге обстановку. В удивленные Мишины глаза смотрели его же глаза из зеркала трюмо с зарубежными косметическими принадлежностями и зарубежными флаконами. Сидел Миша на краю настоящей полуторной диван-кровати, у окна стоял письменный стол, но особенно поразили Мишу журнальный столик и два продуманно поставленных кресла. А свечи-то, свечи! Свечи догорели в подсвечниках! Так вот что делало ночные упражнения столь приятными и необычными. Миша не стал далее ломать себе голову, завернул худощавое тело в простыню и почапал из двери по коридору к запаху туалета и мыла. Было еще очень рано, и коридор был пуст. Миша проигнорировал букву "Ж" и смело продефилировал в кабинку, где прицельно навел струю в приветливое жерло унитаза.
Нечаянно спугнув по дороге двух девчушек, но в целом благополучно вернувшись в комнату 34, где валялись на полу предметы Мишиной одежды, он обнаружил, что высокая матовокожая дочь Азии уже не спала - она в халате, с полотенцем на шее и зубной щеткой во рту отправлялась, очевидно, туда, откуда только что вернулся Миша. Во время ее отсутствия Миша провел профессиональный обыск на предмет наличия спиртного, но обнаружить смог только полбутылки рислинга, которые и впитал его язык. Уточнив на всякий случай имя своей новой знакомой, - Джамма, Банан собирался было уже откланяться и удалиться на поиски пива, но Джамма пригласила его отправиться завтракать, на что Миша быстро ответил, что у него осталось только на пиво.
- У меня есть деньги, - сказала Джамма, и Банану понравились ее слова. Он вообще, как и многие друзья в его компании, любил девушек состоятельных - таких они называли "бисерные кошелечки". Так они вызванивали иногда не "телок", а "бисерные кошелечки" - когда основной целью было не овладеть этими девами в смысле секса, а овладеть содержанием их бисерных кошелечков, в которых иногда можно было найти и такие крупные суммы, как рублей пять, а то и десять. Миша стал прикидывать, на сколько можно будет "раздюрбанить" бисерный кошелечек этой дочери Казахстана (или Узбекистана?), и еще раз окинув взглядом обстановку, решил, что та как минимум тянет на дочь секретаря обкома, а то и на дщерь секретаря ЦК.
Естественно, он принял предложение пойти позавтракать, так как в те счастливые времена алкогольными напитками вроде пива еще торговали с 8:00 и повсеместно.
Когда вышли из дверей общаги, Банан целеустремленно припустил к "Яме" на Хмельницкого, но Джамма окликнула его, и, обернувшись, он с остолбенением увидел, что та открывает дверцу зарубежной машины "фольксваген" марки "жучок". Банан среагировал мгновенно. По его физиономии можно было сделать вывод, что на иномарках, которых тогда в Москве было, как инопланетян, он катался чуть ли не каждый день. Короче он уверенно засунул ноги и остальные части тела в оказавшуюся вполне емкой машину и спросил дочь партии, в чем он был теперь абсолютно уверен, какой же все-таки именно суммой она располагает. Джамма ответила, что суммой она располагает достаточной, и Миша сразу же перевел ее из разряда "бисерных кошелечков" в разряд "портмоне", придумав его на ходу, так как таких "телок" в его кругу еще не попадалось.
Он сказал Джамме, чтобы та в таком случае "давала" в "Арарат" на Неглинку, и стал уверенно показывать дорогу женщине за рулем. В том, что она была женщиной, а не девушкой, Миша после ночи в мерцании свеч не сомневался. По дороге в любимое Мишино заведение общепита, вдруг вспомнилось все: и твердые, темные, коричневые почти до черноты соски ее груди, непостижимо красивый изгиб спины и сладковатый запах выделений из вагины, ускользающую влажность которой осторожно слизывал Мишин язык, нащупывавший ту едва ощутимую выпуклость, посылавшую в мозг Джаммы сигналы наслаждения, заставляющие ее выгибаться дугой и поднимать таз вверх со стоном, похожим на боль. При воспоминании об этом Мишин член стал быстро набухать, а мысли о спиртном перемешались с мыслями о тонкой талии Джаммы и ее упругой узкой заднице. Он сглотнул слюну и уже открыл было рот, чтобы предложить поехать к нему, но тут, обогнув Железного Феликса и сделав поворот направо, Джамма грамотно воткнула "жучка" у "Арарата", и основной инстинкт был подавлен тягой к столь близкому опохмелу.
Вскоре Банан уже полувозлежал на любимом диванчике, любовно лаская страницу напитков в меню, так как еда здесь ему была знакома давно. В первый раз в "Арарат" его привел Леха Кудлай, ходили сюда с ним, этим щедрым и широким человеком, очень часто, и Мише здесь полюбилась и дешевизна, и очень высокое качество продуктов, уют, непринужденность обстановки, знание лично всех официантов, но самое главное - наличие этих самых восточных диванчиков у сводчатых стен, расписанных армянскими горными пейзажами.
Заказ Банан сделал быстро и уверенно - была смена официанта Саши, который просто спросил: "Как обычно?", на что Банан (перед этим они радостно поздоровались за руку) ответил утвердительно, даже не предложив Джамме взглянуть на меню. Но та почему-то стала интересоваться этим "как обычно": бутылочку "Столичной", два салата из помидоров со сметаной и луком, два филе с картофелем, клубнику и кофе. Джамма была согласна со всеми позициями, но поинтересовалась только, зачем в 11:30 утра заказывать водку, на что Банан ответил, что ведь пиво-то он тоже заказал. Но Джамма абсолютно ошарашила и Банана, и Сашу, заказав бокал, именно бокал, а не бутылку советского брюта. Саша профессионально ответил, что бокалами они не отпускают, и уже начал было осуществлять разворот, но Джамма сказала, чтобы несли в этом случае бутылку. А когда была принесена холодная, запотевшая бутылка брюта, она добила и Сашу, и Банана, потребовав, чтобы оная была помещена в ведро со льдом. Тут Банан заметил у Саши тихое счастье профессионального удовлетворения. Он вдруг как-то не только внутренне, но и внешне изменился, исчезло куда-то дружеское панибратство: Саша подтянулся, появилось неведомое прежде изысканное достоинство, как у слуги английского лорда, какая-то элегантная стать. Обернув бутылку брюта накрахмаленной белизной салфетки, он с легким чпоком открыл ее, в то время как его коллега установил в эргономически точно выбранном месте мельхиоровое ведро со льдом. Саша, заложив одну руку за спину, предложил пробку Джамме, та поднесла ее к носу, как будто собираясь понюхать, и кивнула головой. Саша налил вина на самое донышко узкого длинного бокала. Джамма его пригубила и еще раз кивнула головой, и Саша наполнил бокал столь аккуратно, что пены практически не образовалось. Банан в это время сидел, смотрел серыми с красноватой голубизной глазами, в которых отражалось происходящее, и думал, что в принципе ему такое вот священнодействие тоже нравится, особенно когда ты уже успел тяпнуть сто грамм "Столичной" и запить "Рижским" бутылочным. Ему стало жаль, что всего этого не видит Кудлай, в котором тоже жила любовь ко всему прекрасному и аристократическому. Он даже вспомнил почему-то, как в первые дни знакомства с Кудлаем тот у него на кухне, сев на подоконник, как Дорохов в фильме "Война и мир", не держась ни за что руками, выпил из горла две бутылки портвейна по ноль восемь, чем подвигнул Мишу на аналогичный подвиг.
Стряхнув с себя оцепенение, Банан указал Саше на свою рюмку, куда Саша также процедурно налил "Столичной". После третьей рюмки Банану даже самому понравилась эта игра в "до революции". Он представлял себя русским аристократом в Монте-Карло, и даже слова стал расставлять в предложениях совсем другим образом. Вдруг расчувствовавшись, он прочитал несколько собственных стихотворений, чего не делал ранее никогда, доверяя их только дневникам и друзьям в приличном подпитии. По поглубиневшим и подтаявшим глазам Джаммы, Миша понял, что он "на коне", и его понесло. Он стал рассказывать о себе, делиться мыслями о прочитанном, о стихах, живописи, о собственных мыслях, посещающих его в ночное время, когда не спится, а рука тянется к бумаге. И вдруг он почувствовал, как Джамма взяла в свою его руку, и услышал, как она сказала: "Поедем ко мне, я тебя хочу".
Тут Банану захотелось не то чтобы закрепить успешное взятие "портмоне", ему действительно было дико приятно и хорошо оттого, что кто-то из женского пола его понял по-настоящему, и он предложил поехать к нему, где на диване лежала дорогая, заграничная, красная полуакустическая электрогитара, на которой Миша собирался исполнить песни собственного сочинения. Так было и сделано. Миша уже допил поллитровку столичной в тонкостенном графине. Пиво, смешавшись с водкой и съеденным, дало нужную реакцию, и через 27 минут он уже пел Джамме "Алеет вечер, небо все в огне" и "Мне некого любить, не стоит больше жить", - все те ранние школьные песни, которые теперь он даже и не помнил. А потом были долгие занятия любовью в состоянии, когда человек не трезв, но и не пьян, чтобы ничего не помнить. Мише показалось, что он может полюбить эту странную дочь парткомов, читавшую Блеза Сандрара и Аполлинера, знавшую о жизни Ван Гога и Гогена. То, что он сам разбил сердце азиатки, Банан понял еще тогда, когда она взяла его за руку в кафе "Арарат". На какое-то время Миша даже пытался убедить себя, что эта связь поможет забыть о его Великой Любви к Анне. Но он ошибался. Какое-то время, конечно, ему было хорошо с Джаммой, но потом его стало угнетать тщательно составляемое ею расписание культурных программ. Миша ничего не имел против посещения музеев, выставок и театров, но он имел обыкновение проводить эти мероприятия тогда, когда у него было соответствующее настроение. Он не мог себе представить, как можно в понедельник, например, решить, что в воскресенье состоится то-то и то-то. Ведь до воскресенья были вторник, среда, четверг, пятница, суббота, наконец. Да за эти дни такое могло произойти! Так, если взять одну конкретную заранее спланированную поездку в Загорск. Во-первых, Банан там уже был как-то с Олей Плетневой, учившейся на журфаке МГУ вместе с Михаликом, которую тот ему и сбросил. Во-первых, накануне в субботу ночью к Банану завалился Кудлай с двумя бутылками водки, и они самым душевным образом проговорили всю ночь, и Банан узнал Кудлая совсем другим, каким тот не раскрывался ранее. Кудлай говорил о личном, и та ночь перевела Кудлая из просто кумиров в разряд лучших Мишиных друзей на всю жизнь.
А утром, после пары часов сомнительного сна, с головой, напоминающей ДЗОТ, о который разорвался противотанковый снаряд, Мише пришлось вставать, открывать Джамме дверь, принимать холодный душ, одеваться и ехать неопохмеленным черт знает куда, бродить среди церквей и туристов с одной только мыслью - когда же будет ближайшая "стекляшка" или ресторан. Конечно, позже, когда водка была выпита, Банан подобрел. Но Джамма все равно точила его все с большей и большей настойчивостью, пытаясь убедить в том, что за обедом можно обойтись бокалом вина, а не пол-литрой водки или коньяка, запитой пивом, что вообще не обязательно пить вечером каждый божий день при наличии денег.
Или взять походы в театр. Банан и сам ходил в театр. Он прекрасно помнил, как его с Колей Поповым удалили из зала по просьбе актера Михаила Козакова - тогда ребята перебрали малость в буфете и весьма трагические акты каких-то то ли гуцулов, то ли болгар в вышитых крестиками одеждах вызывали у друзей дикий и глупый смех. Козаков сказал тогда, что до тех пор, пока их не удалят из зала, играть он не будет. Так вот, Джамма постоянно доставала билеты то на спектакль, то на балет, то в... консерваторию! Миша ходил иногда даже с удовольствием, надевая по этому случаю даже отцовский или свой пиджак, а то и галстук через шею с узлом, завязанным еще отцом. Но все чаще и чаще встречи с друзьями и обильные возлияния становились между Мишей и культурными мероприятиями, намеченными Джаммой. Банан не рассказывал друзьям об этих мероприятиях - стеснялся. А Джамме выдумывал что-нибудь из уважительных причин. То заболевала бабушка, то тетя, то "внучатый племянник", как в фильме "Берегись автомобиля", то срочно нужно было помочь кому-то перевезти холодильник. Джамма придумала заранее отдавать билеты Мише, чтобы он уже не мог не прийти. Из-за этого, в общем, и произошел случай, кардинально изменивший их взаимоотношения. Уже тогда Миша ощущал, что Джамма хочет чего-то более серьезного, а в глазах ее появляется явное чувство собственности.
В тот раз в институте Миша прогуливал лекцию по истории КПСС и с удовольствием курил у окна. Там его и застукала Джамма, всучив два билета на "Спартак" в Большой. Была пятница, а идти надо было в субботу вечером, то есть в самый законный Мишин день, посвящаемый обычно друзьям и веселью. В субботу началось все очень рано, после первой пары испанского Банан со скоростью призовой лошади срезал напрямик вместе с Якушиным до пивточки у белых гаражей, что была напротив нынешнего "Прогресса", и быстро оприходовал три кружки. На следующую пару решено было не идти, так как Якушин, прозванный за удивительно быстрое "сгонять в магазин" Быстроногим Оленем, имел десять рублей. На часть этих денег были закуплены две бутылки портвейна "777", выпитые в фойе кинотеатра "Горизонт" под два бутерброда с колбасой по 15 коп. за штуку, и четыре "Московских" пива. Оттуда поехали на журфак МГУ, где встретили Сашку Буравского, Мишку Шмушковича и Саню Бородулина, который пил мало, но ходил всегда с огромным фотоаппаратом, помышляя об искусстве фотожурналистики. Деньги были у всех, и все поехали в "Пльзень", где праздник удался на славу - Якушин даже спер велосипед, оставленный кем-то у пивбара, и укатил на нем в сторону метро "Октябрьская", вернувшись уже без велосипеда (гоночного), но с двадцатью пятью рублями. Компания занимала уже столиков пять и состояла человек из пятидесяти единомышленников. Время близилось к шести, а деньги кончались. Тогда Банан, Якушин и Буравский рванули к Большому. Продавать билеты на "Спартак" по спекулятивной цене послали Буравского, так как Джамма не знала его в лицо. Деньги, вырученные от продажи билетов, были пропиты очень лихо - их было много, так как в театре тогда был посетивший Советский Союз президент США, и ажиотаж был еще тот. Ребята пошли в кафе "Метелица", где Банан произвел фурор, ползая между столиками на четвереньках, лая на посетителей и кусая дам за икры, если их кавалеры не наливали ему рюмку водки. В общем, удовольствие было полным и всеобъемлющим. А утром в понедельник (воскресенье было посвящено пиву) в ликбезе Мишу отловила Джамма. На заготовленную легенду о встречаемом в аэропорту человеке со срочным письмом от папы из Экваториальной Гвинеи Джамма потребовала предъявить билеты, которые, как ответил Миша, были в другом, зеленом, пиджаке.
Джамма взяла его под руку и очень ласково предложила поехать к нему домой - отказать вялый после четырех кружек пива Банан не смог. И там Джамма нанесла ему удар ниже пояса. Она попросила его вытащить из зеленого пиджака и предъявить ей билеты. Миша соврал, что, видно, выбросил их в Шереметьево, когда понял, что опаздывает в театр. Но тут Джамма достала билеты в Большой, помеченные буквами М и Д. Оказалось, Буравский умудрился продать эти злополучные билеты именно ей, Джамме. Банан почувствовал себя зверем, которого загнали в угол. И он взорвался. То, что он накричал Джамме, было грубо и сводилось к тому, что она заебала его своими билетами и театрами, что он имеет право на собственную жизнь, а главное - на друзей. Потом он услышал звук пощечины и увидел в темных глазах Джаммы, что пощечину получил лично он, Миша. Он выскочил из комнаты и закурил на кухне у окна. Джамма ушла, даже не хлопнув дверью.
Потом, конечно, было примирение, но отношения стали затягиваться все туже и туже - Мишу явно пытались перевоспитывать, воспользовавшись его проступком. И вот как-то Банан сидел в "Пльзени", прогуливая занятия с группой товарищей, шел очень приятный разговор, как вдруг в пивбар зашло инородное тело из комсомольских вожаков со значком на пиджаке. Мишу срочно вызвали в партком. Зачем - там объяснят. Банан допил пиво и резво, но спокойно направил свои стопы в партком, где его ждали старшие товарищи, члены коммунистической партии. Когда Миша узнал, в чем дело, он просто офигел. Оказалось, что речь идет о Джамме. Джамме Сухебатор - такой была ее фамилия. Кто-то донес, что Миша встречается с Джаммой, а Джамма оказалась дочерью представителя Монголии в ООН, то есть монголкой, а вовсе не казашкой или узбечкой, как думал Миша. Он понял, что отрицать свою причастность к связи с Джаммой смысла не было и решил просто придумать образ и сжиться с ним. И он живо вообразил себя чем-то средним между Швейком и Иванушкой-дурачком. Он состроил серьезную рожу и сказал, что любит Джамму. Ему заявили, что это внучка самого Сухебатора, на что Миша задал вопрос: "А кто такой Сухебатор?" Начальник парткома изумился: "Кто такой Сухебатор?!" На Мишин немой вопрос, полный искреннего недоумения, ответил: "Да это же... монгольский Ленин". Тут Банан выдавил из глаз скупые мужские слезы и с упорством повторил: "А я ее люблю".
Такого члены парткома явно не ожидали. Они думали, что Миша начнет лгать и изворачиваться, говорить, что, мол, ничего такого не было, мы просто, мол, друзья... Мише стали объяснять, что Джамма Сухебатор на следующий год должна ехать продолжать учебу в Соединенные Штаты Америки, но Миша говорил, что никуда она не поедет, что они поженятся, и она будет учиться здесь, на родине мировой революции, а не у загнивающих капиталистов, что жить они будут у него, пока родители за границей, а вернутся - "ничего, потеснимся, мы с Джаммой и на кухне пристроимся". И еще плел всякую ахинею, сам поверив в искренность своих разогретых пивом намерений.
Партийцы обалдели от такой чистоты Мишиной души. Они стали уговаривать его после сочетания законными узами брака тоже ехать продолжать учебу в лучших университетах в Вашингтоне и близ него, но Банан отказывался покинуть Родину (а главное друзей) с таким жаром, что очерствевшие души видавших виды партийцев дали трещины.
Кончилось все тем, что Миша не то чтобы постарается вырвать из сердца с корнем это чувство, но не будет, грубо выражаясь, "пудрить Джамме мозги". Ибо родителям Джаммы кто-то (а они догадываются кто) сообщил, что та влюбилась в аморального пьяницу, не стремящегося к комсомольской или партийной карьере. Сделал это, как Миша догадывался, именно тот хрен со 2-го или 4-го курса, которого он тогда спустил с лестницы на танцах в общаге. Уж больно часто его не лишенная приятности, даже красивая, но уж больно протокольная морда появлялась там, где были Миша и Джамма. И смотрел он на них весьма красноречиво, стараясь не смотреть в их сторону. Ну, а потом произошел судьбоносный случай с красным знаменем, исключение из комсомола и из института, и вся эта любовная история с Джаммой заглохла как-то сама собой.
О водружении красного знамени на пивную точку 8 мая 1971 года
В тот по-летнему жаркий, предпраздничный и оттого еще более радостный день Банан, Михалик, Благодьер, Прох и Якушин сидели в залитом солнце ресторане "Пльзень". Тогда там еще стояли столики. К пиву "Пльзенский праздрой", чешскому и светлому, как заливавшее в тот знаменательный день зал солнце, подавали шпигачки одетые во что-то национальное официанты. Было рано, и сейчас, записывая это по памяти, Миша не помнил, были ли в тот день занятия. Если они и были, то посещены не были.
Обстоятельства сложились так, что за одним с ними столом оказался ветеран с орденскими планками на синем пиджаке. И Прох, сын полковника Прохорова, распознал по орденским планкам кавалера всех орденов Солдатской Славы. Ветеран был втянут в общий разговор, который вскоре превратился в рассказ о взятии Рейхстага, и ребятам так захотелось разделить, что ли, воспоминания этого еще не очень старого и такого клевого мужика. Они угощали его пивом, по-детски воспламеняясь отблесками войны, известной в основном по художественным фильмам.
После "Пльзени" пошли через напоенный весенними сиреневыми запахами парк Горького к Октябрьской площади, где в магазине рядом с "Рыбой" и "Шашлычной" были приобретены две авоськи водки. Намечалась поездка с "деучатами" на Прохоровскую хату в Перово, но времени до встречи с этими "деучатами" было еще много, и друзья приняли удивительно органичное для них на тот момент решение пойти и добавить "пиука" на "пиуточку". Последняя расположилась на другой стороне рядом с двухэтажными домишками, возле были свалены бетонные плиты, означавшие начало эпохальной стройки, уничтожившей впоследствии этот столь дорогой для сердца Банана городской пейзаж.
Вокруг ларька змеилась очередь человек на двести, и стоять в ней, разумеется, никто из пяти друзей не собирался. Прох, напряженно гундося о том, что "их там стояло, но ребята отошли, но скоро будут", начал, как Т-34, втираться в голову очереди, Благодьер элегантно стоял чуть в стороне, чтобы быть на подхвате, а Миня с Санею залезли по близ растущему тополю на крышу ларька, откуда удобнее было принимать уже "нолитые" кружки у друзей снизу. Мужики в условно задних рядах очереди - стоял народ так плотно, что определить все изгибы жаждущей пива толпы было трудно, - орали, чтобы передние не пускали без очереди. Передние изо всех сил цеплялись друг за друга, чтобы не вылететь из очереди, и молчали, так как больше семидесяти процентов из них сами влезли без очереди.
Прох, пробившись непонятно каким образом к амбразуре, уже тянул в середку Благодьера, туда же ломился Якушин. Миня же и Саня выделывали что-то на крыше и орали, что они Егоров и Кантария, орали "За Родину, за Сталина!" и еще что-то такое же восторженно пьяное. Кому пришла в голову идея водрузить на взятый штурмом объект красное знамя, Банан сейчас припомнить не мог. Короче, идея была рождена, и знамя, Миша это помнит точно, подавал на крышу Якушин. Знамя оказалось у Михалика и Банана, а потом началось то, что потом рассказывалось участниками событий многократно разным знакомым в разные времена, пересказывалось другими другим и так далее, становясь постепенно мифом, легендой.
Мужики, рассвирепевшие от наглости молодых подонков, начали хватать друзей и бить их. Взялась за это практически вся очередь, желающих ударить было так много, что Банана, например, держали за руки одновременно несколько человек, одновременно несколько человек пытались размахнуться и ударить, но мешали друг другу. Миша в это время лупил их ногами, не разбирая куда, но, судя по ругани, иногда попадая. Каким-то образом ему удалось вырваться, и он побежал вместе с Михаликом и еще кем-то, потом они остановились - водка-то осталась на плитах, в авоськах. А тут какая-то бабуля, шедшая от толпы, сказала: "Ой, вашего друга там сейчас совсем убьют, ох убьют". Миша схватил три слепленные цементом кирпича и, подняв их над головой, с криком бросился на толпу. Толпа раздалась, и его взгляду предстал Якушин с залитым кровью лицом. Банан почему-то на всю жизнь запомнил его залитое кровью лицо и набухавший кровью выглаженный белый носовой платок. Банан изо всех сил метнул в разъяренных мужиков свое орудие пролетариата, но они успели отскочить. Якушин бросился бежать в сторону Миши, Миша сорвал с урны круглый железный верх и стал угрожающе размахивать перед лицами тех, кто пытался к нему приблизиться. Толпа рычала, подкатывалась, но получить острой крышкой по роже никому особенно не хотелось. Банан не стал ждать и тоже побежал. И тут у толпы сработал рефлекс погони. Надо было тихо уйти, а ребята побежали, и за ними побежало человек двести. И этот батальон обрастал по дороге любопытными, которые тоже присоединялись к преследующим.
Остановлены друзья были уже сотрудниками милиции, которые засадили их в антикварный теперь "воронок" и прикрутили к деревянным бортам канатом, причем Проха так сильно придавили, что он блеванул одному из милиционеров на сапог, чем сразу настроил весь наряд против себя и своих друзей. Сели в просторный кузов и добровольные свидетели из очереди, написавшие позже в милиции, что видели, как "молокососы и подонки топтали знамя ногами и плевали на него, выкрикивая антисоветские лозунги".
Сын вице-президента международной ассоциации критиков, заместителя французского прогрессивного писателя Ива Гандона, Саня Михайлов написал в объяснительной, что, "находясь на Октябрьской площади, будучи в пьяном недоумении, меня арестовал милиционер". Утром следующего дня Банан видел, как Михалика уводил из милиции сам столп отечественной литературной критики. Приехали предки и за Благодьером - мамаша этого строителя коммунизма из Бауманского института работала секретаршей у Георгадзе, босса Моссовета. Потом, кажется, забрали Якушина - то ли мама, Лариса Соломоновна, деканша факультета русского языка и литературы в Ленинском педе, то ли папа, Николай Иванович, преподаватель Литературного института, то ли оба родителя вместе.
Проха за применение ненормативной и в основном лагерной лексики, почерпнутой у земляков из зоны проживания, то бишь Перово, посадили в отдельную камеру как зачинщика и "главного" ("Он у них главный"). Впрочем, в отдельные камеры запихнули и Михалика, и Банана, родители которого еще были за границей, а бабушка, очевидно, не котировалась. А может, он и телефон-то ее не давал. Как бы то ни было, позже и его отпустили.
Потом на них было заведено уголовное дело. И сидеть бы им всем в местах не столь отдаленных, если бы дело не передали в КГБ. Кагэбэшники, как выяснилось гораздо позже через мужа маминой подруги тети Гали, опросили жителей близлежащих домов (они-то и вызвали милицию) и установили, что антисоветских лозунгов ребята не выкрикивали, орали только "За Родину!" да "За Сталина!" - играли во взятие рейхстага. Между прочим, те самые, что про них плохое написали, еще к тому же и авоськи с водкой у них сперли и, присвоив содержимое, выпили. А чтобы безнаказанно присвоить водку, написали ложные обвинения, гады.
Дело было снято с производства за отсутствием состава преступления - знамя было не сорвано, а повешено на более высокое место - на объект общественного питания, что закон никак не нарушало. Флаги можно вешать хоть у входа в венерический диспансер - пожалуйста, вешайте на здоровье.
Но из вузов ребят тем не менее исключить успели, и они один за другим отправились в армию.