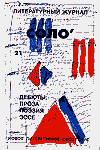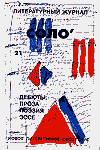Рабочий день окончен. Огромное, многоэтажное здание - будто корабль, команда которого сошла на берег. Сейчас я один. Я не включаю света. "Сумерничаю". Так легче: думать и всматриваться. Да, и - всматриваться: ибо лицо этого человека никак не хочет уйти из моего сознания, хотя, казалось бы, судьба этого человека уже решена.
"Вот и все". Дней через пять, в другом конце области, Княжнин распишется под гладкими, как желуди, словами: "Решение горкома об исключении из членов КПСС тов. Княжнина Н. А. за неправильное поведение в коллективе подтвердить". А сшитое, пронумерованное, скрепленное печатями персональное дело положат в архив. Вряд ли кто воспользуется им. "Дела" эти не принято изучать. И только хранитель время от времени прикасается к ним.
- Пора домой!
"Это кто-то из последних любителей вечерять". Но в двери стоял Чужинов, мой коллега, инструктор парткомиссии. А его-то к любителям "вечерять" отнести никак нельзя. О нем говорили, что на работу он приходит аккуратно, а уходит еще аккуратнее.
- Поживее! - нетерпеливо зовет меня Чужинов. - Складывай свои бумажки!
А я медлю, стою в нерешительной задумчивости, как бы взвешивая на вытянутой руке все три тома персонального дела Княжнина. Тяжесть их клонит руку к столу. "Да, немало на него насобирали". И я не уверен, что конфликт понят, а участники его, в каких бы облачениях они в нем не выступали, узнаны в лицо, и мне стала ведома истина, что помогает каждому пройти свою борозду, не бросая плуга до последней минуты. Нет, в этом я совсем не уверен, хотя решение принято, а совесть инструкций спокойна, и никто не бросает на меня вопрошающих либо гневных взглядов. И все же... в самых сокровенных глубинах мозга и сердца идет и идет какая-то несознательная борьба, какая-то перекличка, не дающая мне покоя. Вновь и вновь я возвращаюсь к тому, от чего, казалось, ушел, ушел навсегда; мучительно думаю, сомневаюсь, вступаю в жаркую полемику с самим собой, чтобы понять, откуда, из каких ошибок или утрат родилась и эта борьба, и это неизбывное беспокойство, и эта неопределенность.
Сбрасываю с руки, будто с лопаты, пухлые папки.
- Я еще поработаю.
От Чужинова, однако, не так-то просто отделаться.
- Тогда включи свет! - командует он от двери.
Подчиняясь, я потянулся к выключателю. Каждый из нас, особенно в начале, нуждается в рекомендациях, доверии и указаниях. В Чужинове я все еще видел наставника, который, порой и поучающе, но, в общем, доброжелательно дарил мне свои советы.
"Запомни, - говорил он, - ты - партследователь. Твоя обязанность давать точное представление о поступке на основании фактов, подтвержденных документами. И еще одно усвой: главное тут опыт и навык, без них пропадешь..."
Как в старину в памяти сказителей, в памяти Чужинова хранилось множество повествований о том, как это бывало не раз и не с одним. Он вспоминал их, чтобы подкрепить советы "самой жизнью" с ее правотой, ее противоречиями и произволом случая. И хотя многому Чужинов не был свидетелем, однако это не мешало ему придавать неопровержимую убедительность своим рассказам. Смущало только одно. За всеми его рассказами виделся мир, в котором каждого из работников, особенно новичка, повсюду подстерегают опасности, ловушки и западни, подстроенные не столько собственной неумелостью, сколько завистью, либо интригами сослуживцев. Это смущало, и я, почесывая по-крестьянски затылок, говорил ему растягивая слова:
- Оно, конечно, может и так, но я...
- Не веришь, значит? - обижался Чужинов и, хлопая ладонью по столу, заканчивал, - Зря! Это не я тебе говорю, а мой опыт. Ему - верь!
И я поверил. Прошло время, и я принял эти советы. Они служили мне, и я был доволен, как бывает доволен парнишка, которого привели в цех к старому дядьке, привели и сказали: "Становись, смотри и учись". Он учится. А через месяц-другой глядишь и норму дает, его хвалят: "Рабочий!" Он скромно улыбается, и не слишком торопится уйти от похвал. Он доволен жизнью, учителем, собой; впереди - светлая дорога. Неудачи, неудовлетворенность изделиями рук своих, разочарования, опасности, конфликты с людьми и самим собой? - он о них слышал, но что они для него: он не творец, а работник! Сколько во всем этом наивности и причин будущих поражений. Завтра и послезавтра он в этом уверится, и ему будет горько...
- Что же ты? Включай! - властно потребовал от двери Чужинов.
Но я опустил руку; и почти грубо бросил ему:
- Думать можно и без света...
Он недоверчиво покачал головой, и в голосе прозвучало подозрение:
- Ну-ну... Тебе видней.
Сухо, как крышка люка, щелкнула дверь. Отзвучали шаги.
Итак, я один. Словно желая убедиться в своем одиночестве, медленно обвожу кабинет взглядом. Здесь нет ни прозрачных колб, ни холодно блестящих приборов, ни впечатляющей путаницы проводов, ни выстроенных в шеренги пробирок. Меня окружает мир обычных вещей. Вдоль стены, будто девчата на танцплощадке, рядом стоят стулья. В углу огромным айсбергом высится сейф. В его молчаливой тяжеловесности частица сущности нашего времени. Как и в ручке, напоминающей своей формой нацеленную в небо ракету. Золотистый пятиугольник со словами: "сентябрь 1959 год" приобщает нас к победам человеческого Разума. Рядом пепельница. Любой, кто захотел бы выставить свидетелей наших раздумий, во множестве мог бы найти их в этой мраморной гробнице сгоревших сигарет. И стол. Примерно раз или два в неделю к его поверхности через нагромождение крыш одиноким лучом пробивается солнце. Тогда дерево начинает светиться, теплеет, оживает, как воспоминание. Невольно протягиваешь руку, чтобы прикоснуться к нему осторожно, кончиками пальцев...
Да, мой предметный мир совсем небогат. Вещи, что вокруг, не содержат в себе ни задания, ни цели, ни оправдания того, что я делаю. Но они и не грубые и безучастные массивности; они как плуг, рубанок, коса, - эти простые орудия крестьянина или плотника - помогают мне, пускай еще в самой ничтожной степени, участвовать в преобразовании мира человеческого до нужного людям совершенства.
Я положил ладонь на гладкую поверхность стола и, переждав пока она стала такой же теплой, прикоснулся к ручке, потом передвинул пепельницу...
Мне представилось, что слова эти, - словно девиз на щите, сразу вводят в суть действий, составляющих мои обязанности. И я раздумчиво повторил вполголоса:
- Переделывать мир человека до нужного людям совершенства...
Но тут же и одернул себя:
- Не надо красивых слов, Камов.
Среди нас, товарищей по работе, царит суровая сдержанность, немногословность, даже некоторая скрытность. Нам они понятны. Мы имеем дело с воспитующим наказанием. Когда, облокотясь о стол или немного отодвинувшись от него, я обращаюсь к сидящему напротив, то ему мнится, что слова мои своим острием, словно копье, направлены только к нему. Но думая так, он заблуждается. В действительности они обоюдоостры, как меч; их ничем не прикрытая прямота с одинаковой болью отдается в обоих сердцах. И я это знаю. Мне памятны многие из диалогов, каждый из которых весь - от начала и до конца - есть прикосновение к открытой ране.
- Это для вас будет уроком.
- Но, товарищ Камов... Я работал всю жизнь: строил, пускал, осваивал, а меня... а меня...
Он не решался, не мог произнести это слово, и я пришел к нему на помощь:
- ...а вас - исключили! Потому, что совершили недостойный коммуниста поступок.
- Да, но это случилось в первый раз. Только один раз. Неужели?..
- Простите, вы же знаете: честь не теряют дважды.
- У меня взрослые дети... что скажут дети? Как я им посмотрю в глаза!?
- Это к персональному делу отношения не имеет.
- Тогда посмотрите характеристики! Я рос вместе с заводами, шахтами... меня поднимала жизнь... Посмотрите!
И человек подал мне скатанные в трубку свидетельства былого уважения людей. Перебирая пожелтевшие, истершиеся листы похвальных грамот, приказов о премировании, разных свидетельств и дипломов, я смотрел не на них. Я смотрел на обхватившие голову руки, на шрамы ожогов, зарубцевавшиеся линии порезов, черные бороздки трещин на огрубевшей коже, и был уверен: они знали о труде, о настоящей работе все.
Я смотрел на его большие, непомерно большие для его тела руки, смотрел на седеющую голову, на поникшие плечи, смотрел, и решительность, непреклонность, строгость уступали свое место другому чувству - жалости.
О, как хочется проявить жалость! Будто морская затишь, она подкатывается к горлу, теснится в груди, вкрадчиво льстит самолюбию: "Решает тот, кто расследует. И ты бы мог..."
Откидываюсь в кресле, начинаю переставлять на столе знакомые предметы, перекладываю бумажки, заглядываю в ящики стола, но жалость не отпускает меня. Подобно умелой сообщнице, она находит подкупающие, льстивые слова, чтобы прокрасться к сердцу, подчиняет волю, подталкивает к действиям, советует: "Ведь есть и другие меры... И ты мог бы написать: считать решение об исключении правильным, но учитывая - искреннее раскаяние, осуждение совершенного, обещание впредь не допускать подобного, в партии оставить, за неправильное поведение объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку".
А это совсем иное.
Снова бросаю взгляд на неподвижную, как горестное изваяние, фигуру, и спрашиваю себя: "Может быть действительно надо проявить жалость?.." Вопрос рождается вроде бы произвольно. Но он, будто тайный знак, возвращает меня к реальности. "Проявить жалость?.. А во имя кого? Во имя этого человека? А люди? Люди, что жили в землянках, когда он строил себе особняк?"
Жалость отступала, нехотя, как скатывающаяся волна.
"Исключение из партии, крайняя мера. Но коммунисты прибегают к ней не ради суетных или сиюминутных целей. Они таким образом для себя, а по сути своей для всех, еще и еще раз подтверждают свою оценку хорошего и плохого, добра и зла, всего того, что принято, а что не принято в нашем обществе. Они судят одного, чтобы блюсти достоинство всех. Суд этот строг, а справедливость беспощадна. Тем и дорога людям".
Жалости не было.
- Нет, я ничем не могу вам помочь. Ничем. Только вы сами...
Словно прочитав мои мысли и все поняв, он, опираясь о стол, поднялся и, тяжело ступая, пошел к двери. Я не пытался его остановить: "Зачем?" И он уходил, уходил с жестокой медлительностью, будто на ватных ногах. Я смотрел ему вслед. А он уходил, не обернувшись, как с пепелища, уходил, унося на поникших плечах справедливость людей. Он не стал больше говорить ни о заслугах, ни о будущем, ни о своем поражении. Он уходил молча.
А я смотрел ему вслед, и вот всем своим сердцем видел: нет, этот человечина не потерян для партии, для всего рабочего коллектива, в котором возрос! Оступился. Оступился страшно. Но этот подымется!
Но разве такое же и с Княжниным?! Да, формально говоря, "персональное дело" его закончено. "В архив"! И в раздумья мои снова вступает подкупающий и уверенный совет Чужинова:
- Решение принято коллективно, старик. Теперь - Княжнина забота! Он исключен, а не ты. Его забота - добиваться пересмотра, если не согласен. Найдут там, наверху, нужным исправить - поправят. А ты свой долг объективности исполнил. Что ты еще можешь? Забудь, забудь начисто! Дело служебное, обычное, повседневное. Не запоминает же стрелочник громыхание каждой электрички!
Что же, можно и этак!..
...Сигарета... другая...
Усилием воли заставляю себя вспомнить "поэтапно", зримыми и звучащими "кадрами", все, что происходило в связи с персональным делом Княжнина.
...Приглашенные на заседание бюро, вежливо подвигав стульями, быстро расселись, пошелестели блокнотами и приготовились, застыли, точно статисты. Склоняясь друг к другу, тихо переговаривались члены бюро - судьи, которым ведом исход. Прикрываясь ладонью, кто-то у окна высматривал Домбарова. Он хотел, чтобы сдвинули занавес: полированная поверхность стола, отражая солнце, резала глаза нестерпимым блеском живой воды. Но его взгляда не понимали. Тогда он, сделав движение руками, попросил:
- Задерните... кто-нибудь.
Тут же один из сидящих - грузный, с пробивающейся сединой в смолистых волосах - поспешно вскочил, и, согнувшись, ступая на носочки, неслышно прошел к окну, взял занавески и осторожно, благоговея, словно накрывал спящего ребенка, сдвинул полотнища тяжелой материи, потом возвратился на свое место. В той же позе. Лишь позволил себе снять очки и зажать их в кулаке. И долго стоял, взирая на Домбарова взглядом младенца, совсем не затронутого злом, пока не дождался благодарственного кивка первого секретаря обкома.
Княжнин, внимательно наблюдавший за происходящим, тут же зашептал мне: "Это Артаков, управляющий трестом. С годами у него не только совесть, но и позвоночник гибче становится. Сегодня вы убедитесь в этом не раз... Когда посмотрите, как он будет выступать: с улыбочкой, ласково, будто проповедник". Я никак не откликнулся на этот доверительный шепот, меня занимало другое. Накануне Княжнин говорил мне об очковтирательстве, приписках в тресте, называл факты, подкреплял их примерами, сообщал даты. Не очень стеснялся в определениях. И заключил:
- Почему на это спокойно взирают и не хотят вникнуть - непонятно.
Наши взгляды встретились.
- Не хотите ли вы сказать, что там и не газопровод вовсе построен? - Раздраженный его "бестактным", как мне казалось, "шептаньем", отвечал я.
Княжнин выдержал и пристальный взгляд, и ироническую усмешку, ему сопутствующую. Потом, словно присягая, произнес:
- Утверждаю: Батыев след это, а не газопровод...
Как быть? Сообщенное Княжниным "выходило" за пределы его персонального дела. Чтобы подтвердить или опровергнуть заявления Княжнина, нужно время, надо откладывать рассмотрение. В бумагах, лежащих передо мной, об этом не говорилось ни слова.
- Понимаете ли, - повернулся я к Княжнину, - завтра ваше персональное дело будет обсуждаться, а не Артакова. Поэтому давайте говорить о вас. Сообщаемое вами сейчас проблематично, а написанное о вас - подчеркнул я последнее местоимение - достоверно, доказано и обосновано фактами.
...И мне вспомнилась одна из предшествующих встреч с этим человеком... Я готовил тогда мое заключение для бюро обкома. В руках моих - первый том его персонального дела. В нем каждый факт и документы, подтверждающие вину Княжнина, заложены. Так на складе готовой продукции каждое изделие имеет бирку. На ней артикул, цена, дата изготовления, штамп ОТК... К первой папке пододвинул вторую, к ней - третью.
- Я слушаю вас, товарищ Княжнин...
- Зря трудились. - Рука Княжнина легла на папки. - Я не отрицаю того, что было, хотя все, связанное с моим поведением, изложено тенденциозно, предвзято...
"Это уже слишком!" И раздражение захлестнуло меня.
- Предвзято, говорите, тенденциозно, говорите? - Повторял я, лихорадочно перебирая закладки. - Даже вот эта ваша резолюция: "т. Зубова Г. М., если вам не хватает своего ума, то займите его у т. Кузнецова Е. М.".
Это была "подножка". Помню, лицо Княжнина покрылось пятнами, он замолчал.
- В моей справке для бюро о ней упоминается вскользь, но при докладе, - повысил я голос, - мне не трудно сказать подробнее, если... - Я сделал паузу, я был великодушен и не хотел бить "лежачего". - ...если сочту нужным. Вам не советую хорохориться, а признать свою вину, раскаяться. От этого будет зависеть многое. Надо заверить, - поучал я Княжнина, - что вы учтете, сделаете выводы.
Княжнин тогда не выдержал:
- Подождите, - остановил он меня. - Как же так: человек хочет объясниться, понять других, сопоставить аргументы, а ему говорят: "Покайся и все встанет на свои места". Вы что, всерьез хотите, чтобы я сыграл роль, хотя и не виноватого, но "искренне" раскаивающегося? Мне уже такое советовал один в горкоме. "Что ты наделал, что наделал? - огорчался он. - Ну и глупый же ты, Княжнин, - говорил он мне, - по-детски глупый!.. Сам испортил все, так и пеняй на себя... Тебе что, поговорить захотелось? Пока мы шли к кабинету, он все вздыхал: - Эх, ты... Тебе надо было сказать всего четыре слова: "Товарищи! Признаю, простите, исправлюсь". А ты? Тебе видно поговорить захотелось... Так знай, здесь никакие твои речи не нужны. Надо уметь вовремя склонить голову..." Не ожидал я, товарищ Камов, что и от вас такой же советец получу.
И вновь наши взгляды встретились. В подсознании мелькнуло: "Так завязываются узелки неприязни". Многие за такие советы не только благодарили, они даже просили: "Подскажите, как себя лучше вести?" Они придавали значение всему: и как войдут, и как поздороваются, как начнут рассказывать... Они полагали: иногда и соломинка надежды становится плотом спасения.
- Во всяком случае, - уклонился я от прямого ответа, - не рекомендую вам лезть на рожон...
Княжнин угрюмо пожал плечами. По его трудному дыханию чувствовалось, что он сдерживается через силу. Встал. Тряхнул головой и, глядя мне в глаза, вызывающе произнес:
- Не беспокойтесь: партбилета я не отдам!
Сомнений быть не могло: мои усилия отвергнуты. Княжнин отказывался от советов, по моему мнению, вполне приемлемых и совершенно естественных.
- Не слишком, товарищ Княжнин, много на себе берете? - многозначительно отвечал я. Такой разговор не мог протянуться долго. Княжнин уходил, как уходят несогласные.
- Прошу вас, товарищ Камов, докладывайте.
Поднявшись, я начал перечислять:
- Княжнин Алексей Николаевич. 1944 года рождения, состоял членом КПСС с мая 1963 года, партбилет номер...
- Мы все это читали, вот здесь... - Домбаров потряс над головой моей справкой. Обращаясь к членам бюро, предложил: - Может, послушаем Княжнина? - все согласно кивнули. - Вам слово, товарищ Княжнин.
Княжнин встал, обвел всех взглядом, пытаясь угадать, кто здесь его союзник и его противник. Казалось, он рассчитывает, оценивает возможности каждого, взвешивает. Его никто не торопил, не шелестели бумаги, никто не перешептывался, не скрипели стулья. Все ждали. Через двойные двери было слышно как в приемной кого-то ласково уговаривала секретарша: "Да нельзя сейчас туда. Там заседание... Персональное дело... с участием". Наконец, вероятно решив все, Княжнин заговорил.
- Мое поведение возможно и неправильно. По форме неправильно, - подчеркнул он. - Но здесь-то, я надеюсь, ценится существо, а не форма его выражения? - Снова обвел - уколол всех взглядом. - И все же за форму выражения я готов сегодня принести извинения.
Кивок в сторону приглашенных, легкий и сдержанный. И сразу же первая реакция, громко, для всех:
- Ну, вот и хорошо. А то в бумаге товарищ Камов изобразил вас совсем уж неподдающимся.
Это был Миронов. Его называли: "Мамино сердце - всех жалко". Даже в тех случаях, когда член партии опозорил звание коммуниста, когда его с партией связывал только билет, он все равно говорил: "Нельзя исключать. Мы - обком. Вот если райком исключит, тогда мы подтвердим... или отменим".
Такая позиция вызывала и недоумение, и споры со ссылками на параграфы Устава. Но сегодня высказывание Миронова показалось мне уместным. Я почувствовал облегчение. "Еще несколько подобных фраз и нити симпатий, что потянулись к Княжнину, окрепнут, извинение будет принято: люди часто удовлетворяются словами..."
- Это хорошо, - повторил Миронов. - Продолжайте.
"Многое и часто, - думал я, - решается, зависит и поддерживается словами. Сами по себе они не обладают никакой чудодейственной силой. Но вовремя и умело сказанные, нужные и точные, они исцеляют больных, спасают честь, ведут на смерть или прикрывают деяния, посерьезнее, чем поступок Княжнина". Вместе с Мироновым я взглядом тоже прошу Княжнина: "Продолжай. Еще несколько слов, жестов, спокойного раздумья о случившемся - и проблема твоего неправильного поведения будет снята. Тогда ни тебе, ни мне не надо будет ждать вопросов, искать на них ответы, объяснять. Тогда родится атмосфера понимания и удовлетворения. А там придет и прощение: "Молод еще..."".
Но Княжнин, видимо, решил больше не пользоваться ничьими советами, просьбами или пожеланиями. Он заговорил резкими, как удары бича, фразами. Он обвинял присутствующих:
- Управляющего трестом надо гнать к черту ивановичу, а вы бегаете вокруг него... Все достижения, о которых он вам рапортует - очковтирательство, показуха, причем мерзопакостная...
Будто семечки, раздавал оценки:
- Этот? Гулкая бочка правоверных цитат, благочестивых вздохов и лицемерия. Первую половину дня он выступает в роли благочестивого члена партии, а вторую - живет личной жизнью мещанина... Трудно поверить? Колупните - увидите...
Бил наотмашь:
- И этот только на словах согласен с линией партии, а на деле он давно уже устал за нее бороться...
Парировал мой призыв быть самокритичнее:
- У меня самокритики достаточно.
И прежде чем сесть, закончил:
- Я здесь потому, что отказался вести себя в рамках приличия с неприличными людьми. Я им сказал то, чего они заслужили.
Такими аргументами сегодня не убедишь ни один ум, не завоюешь ни одного сердца. Одиночные винтовочные выстрелы - что они заходящим на позиции штурмовикам? Отбомбившись, они уходят в зону недосягаемости...
Уже выступили - спокойно, не обидно - управляющий трестом Артаков и начальник главка министерства. Они начали с важности строительства газопровода, много говорили о трудностях, в которых оно ведется, называли количество вынутой земли, уложенного бетона, труб... Цифры звучали убедительно, конкретно, зримо. И реплика Княжнина: "Трудности дают право на льготы, а не на скидки" - осталась без внимания.
Зато я чувствовал, как с каждой фразой нарастало напряжение. Нити симпатий, протянувшихся было к нему, рвались, вокруг сжималось кольцо гнева. Я видел, как из подставок исчезали карандаши. Их разбирали, будто в кабинете раздался призыв: "К оружию!" Отточенные острия рвали бумагу, прочеркивая стрелы, выделяя нужные строчки линиями волн либо частоколом восклицательных знаков. "Твоему подопечному крышка, - прочитал я на пододвинутом Чужиновым листе. - Он летит вниз и вот-вот разобьется насмерть". Я и сам понимал: теперь Княжнину не выкарабкаться.
Один за другим поднимались члены бюро, поднимались и выносили на суд всех других фразы из следственного дела, подобные тем, какие сейчас бросал Княжнин. Цитируемые по моей справке, они взрывались, точно детонирующие друг от друга снаряды, вызывали все большее возмущение. Все складывалось совсем не в пользу Княжнина. Даже Миронов решил выступить. "Декларации, не подкрепленные доказательствами, - провозгласил он, - суть демагогия. А демагогов в партии терпеть нельзя!"
Несмотря на это, я отписал Чужинову на том же листе: "Попробую помочь". Тут же на мое колено легла рука:
- Не вздумай, - испугался Чужинов. - Тебе же попадет: суешь, скажут, на бюро то, в чем сам не разобрался. Рикошетом попадет, но больно...
Резко отстранившись, я спросил:
- Разве в этом дело? Сейчас многое, а может быть все зависит от меня. Я должен сказать, и я скажу...
- Что ты скажешь, ну что? - урезонивал меня Чужинов. - У тебя же нет фактов, подтвержденных документами. Никаких, понимаешь? Одни слова...
Да, фактов у меня не было. Заявление Княжнина об обмане государства, очковтирательстве документами подтверждены не были. Не мог я утверждать, что и сам он ни в чем не повинен, что его поведение и поступки безупречны. Но, бывает же такое: надеешься, когда надежды нет, и веришь вопреки всему, даже вопреки очевидности, вопреки доводам рассудка и людей. Понимаешь: при таком подходе рискуешь впасть в ошибку, оказаться непонятым, отвергнутым и осмеянным, но говоришь себе: "Ну так что же? Кто на этом основании имеет право отказаться от действия?"
- ...Я скажу сейчас, - ответил я Чужинову, - рассмотрение отложить, заявление проверить, исключить никогда не поздно. - Обращаясь к Домбарову, добавил: - Разрешите?
Домбаров как-то странно взглянул на меня и в его взгляде... Впрочем, я и сейчас доподлинно не знаю, что было в этом взгляде. Тогда же я увидел в нем не приглашение, а неудовольствие и угрожающий упрек: "Защитить хотите?" А тут еще Чужинов повис на моем плече всем телом:
- Сиди! Они решают, они и несут ответственность
И я уступил.
Желающих выступить больше не оказалось.
- Ну что ж... - заключил Домбаров. - Когда коммунист встает на путь бездоказательного охаивания, недостойных оскорблений, необоснованных выпадов, это говорит, что он не стойкий партиец. Ибо мы требуем от членов партии выдержанности, умения бороться с недостатками и ошибками, не впадая в крайности. И мы вынуждены... У кого-то есть вопросы? Кто-то желает еще высказаться?.. Нет?
Время между вопросами и ответами текло медленно, слишком медленно. А Домбаров все спрашивал:
- Значит, нет желающих?.. Тогда голосую... Кто за?..
В глубоком раздумье, одна за другой, поднимались руки. За их неохотливым движением напряженно следил Княжнин. В его глазах была надежда: "А вдруг..." Вместе с ним надеялся и я. Но нет!
- Мнение единое: исключить!
И через зияющую пустоту секунды:
- Сдайте партбилет!
Утро нового дня! Оно все больше укрепляет меня в решимости начать все сначала. И я спешу.
Пересекая в неположенных местах улицы, срезая углы площадей, я беспокоюсь лишь об одном - о времени. "Только бы мне хватило времени". Мысли о нем, о его беге и невозвратности постоянно присутствуют в сознании каждого из нас: выигрывает тот, кто выигрывает время. Подхлестываемые временем, будто кнутом надсмотрщика, мы бесконечно спешим: успеть, успеть, успеть... И все-таки времени нам не хватает. А как мы расточительны на него!..
Помню, когда я пришел впервые на работу в парткомиссию, я сказал ее председателю Емцову:
- А у вас здесь не торопятся.
Слова чем-то задели его, и он наставительно отпарировал:
- Должно же быть хоть одно учреждение, где не торопятся, не решают все на скорую руку. Впрочем... это иллюзия, которая скоро рассеется...
Так оно и оказалось. Спустя два или три месяца я завел со своим приятелем совсем иной разговор.
- Знаешь, сколько я сижу на месте?
Спросив, я молчал, в тайне радуясь, что сейчас он скажет явное не то. Он мялся:
- Откуда мне знать.
- Ну, а все-таки?
Он что-то прикинул, сравнил и сказал:
- Час, от силы - полтора.
Приятно, когда о тебе так хорошо думают. Но я должен был разочаровать его.
- Мой беспрерывный рабочий цикл, если так можно выразиться, составляет не более двадцати минут. А потом я прерываюсь...
Днем время мне совершенно не подконтрольно. Подобно воде - чистой, прохладной, нужной людям, цветам, заводам - оно растекается на что угодно, куда угодно. Днем я не хозяин своего рабочего времени. Не успев сесть, я уже встаю. Чтобы сбегать в машбюро, принести, разложить и считать отпечатанное: выполнить обязанности курьера, делопроизводителя, архивариуса...
Порой кажется, что я один из шестерых играю в волейбол. Не успев подать мяч, я бегу его принимать... Словом, сную и сную по коридорам, ухожу, прихожу, терпеливо жду, снова ухожу и снова прихожу, чтобы что-то принести, за кем-то или чем-то сходить, что-то отнести; чтобы убедиться: за дверью, в кабинете, куда я приглашен, сейчас другие посетители, и мне "велено ждать", или там сейчас вообще не до меня, там - "запарка", "наскочило одно на другое", "есть дела поважнее" и мне, понятно, "придется подождать".
И вот почему сегодня я встал чуть свет и спешу, спешу на работу... Другого мне ничего не остается. Пока начавшийся день возьмет меня в свои шестерни и передачи, я сумею многое сделать, я подготовлюсь к встрече с Емцовым. Он только вчера вечером вернулся из командировки. Рассказать ему, чем и почему так закончилось рассмотрение персонального дела Княжнина - необходимо. И не легко.
А Емцов? Убежден ли он, что в персональном деле Княжнина все и все решено по справедливости?
- Как-никак, - скажу я ему, - дело Княжнина сложное, запутанное.
Он мне тут же посочувствует.
- Да, конечно...
И замолчит, пристально вглядываясь за окно, в какую-то точку, видимую только ему одному. А я буду ждать, не решаясь потревожить это выразительное молчание. И мучиться точно школьник, плохо выполнивший задание. С той лишь разницей, что в школе вместе с тем, кто изводится у доски, мучается весь класс. Как и школьнику, мне не уйти от десятка его вопросов - выясняющих, дополнительных, уточняющих, а что если после вопросов своих Емцов скажет:
- И вас, Камов, пленила звезда отчетного показателя, и вы решили ловить рыбу лишь бы были центнеры?
И снова замолчит, чтобы через тягостную, долгую минуту спросить прямо:
- Или вы... струсили?..
Что ж, многим из работников, им руководимых, приходилось слыхать от него такие вот "штыковые" вопросы!
"Почему Емцов так прямолинеен?"
С удивлением я обнаруживаю, что во мне есть кто-то другой, несогласный почти со всем, что я думаю сейчас и что намерен делать сегодня.
Да, я смолчал тогда на бюро. Однако разве по существу не прав был тогда Чужинов? Чем бы я стал обосновывать свое несогласие? Фактов никаких - одна интуиция! Каждый посадил бы тебя на место простым доводом: "Ну, если уж здесь, на бюро ваш Княжнин так себя ведет, а на что он был способен там?!"
...Улицы еще пустынны.
Постовой у входа удивлен столь ранним моим приходом на работу:
- Что с вами? Вчера - почти до полуночи и сегодня - чуть свет!..
Я предъявляю удостоверение.
- Нужда, знаете ли, гонит... Обстоятельства...
Вероятно, в его жизни обстоятельства играли тоже заметную роль. Понимающе кивнув, он приложил руку к фуражке:
- Проходите!
Теперь, в кабинете, я стремлюсь жить содержанием каждой минуты. Сначала я совершаю действия, подобно тем, что совершает токарь, готовясь включить станок, - проверяю есть ли в ручке чернила и остаюсь доволен: не надо с утра пачкаться. Кладу на стол лист бумаги - мое поле - и разделяю его чернильной межой пополам. Переставляю поближе пепельницу. Рядом - сигареты и спички. Подтягиваю за угол с края стола первый том персонального дела Княжнина и вновь констатирую: "Да, немало на него насобирали".
Держу руку на обложке и не решаюсь ее открыть; так долго не решаешься открыть дверь, ведущую в неизвестность. Согнув листы, выпускаю их из-под пальцев, смотрю, как, догоняя друг друга, мелькают страницы. И от этого мелькания, этого выскальзывания, шороха, этого нескончаемого движения возникает ощущение чего-то неуловимого... как пена прибоя. Будто я стою у его кромки, а передо мной неоглядная, истязаемая ветром, перепаханная ширь воды. Будто где-то там, за горизонтом, в открытом борении неведомых мне сил родились волны. И принесли сюда эту кипящую пену; она омывает меня со всех сторон, ее только я и вижу. И ничего не знаю о волнах, их зарождении, тех изменениях, которые произошли, когда они двигались к берегу. Ничего! Хотя от вглядывания в эту рождающуюся и умирающую белизну кружев уже устали глаза. Ничего! Кроме того, что они есть.
Снова прикасаюсь к обложке - глянцевитой и холодной, как лист капусты, - окидываю ее взглядом: сверху, по углам, внизу чернеют штампы, шифры, надписи. В этой непрочной оболочке заключен конфликт человека и людей, его и их совести. "Что я знаю об этом? Что я знаю о нем? Кто он - формально виновный или обманувшийся, потерпевший или совершивший зло?" Мне предстоит, видимо, пройти долгий путь, затратить много усилий, прежде чем я отвечу на эти вопросы.
Истина - это выводы из фактов, подтвержденных документами. Она рождается не из видимости, а из их сущности. Чтобы прийти к единственно верному решению, надо исследовать сами факты, узнать, какова их биография, достоверны ли они, посмотреть, из чего они состоят, что несут в себе. Тогда можно сказать: "Я в чем-то разобрался, что-то понял". Так ребенок, заглядывая внутрь вещи, узнает, как она устроена, какая шестеренка какую крутит; он открывает целый мир, он читает книгу жизни. По своим стремлениям он равен первооткрывателю, ученому, творцу.
Итак, я готов осуществить то, ради чего я здесь в такую рань. Я готов совершить возвращение к прошлому, таящее в себе сладость надежды и боль терний отыскания истины. У меня есть решимость действовать, найти путь к собственному возрождению и указать его другим.
Открываю папку, вчитываюсь в документы, делаю пометки, выписываю, оставляю закладки, чтобы вернуться к этому вот факту, к этой вот детали еще и еще раз.
Выработанная по ходу дела "технология" помогает мне. Я читаю. Вот она передо мною злополучная резолюция: "т. Зубова, если у вас не хватает своего ума, то займите его у т. Кузнецова". Констатирую бесспорное: "такая резолюция оскорбительна". Спрашиваю: "А что явилось причиной такого действия: давняя неприязнь, нашедшая такой выход? Или это мгновенная и безотчетная реакция Княжнина на неумение Зубовой, на ее лень, на органическую неспособность к делу?" Спрашиваю и не нахожу ответа. А через немного времени прихожу к выводу: "Теперь я этого не узнаю. Теперь, сколько ни шелести этими сшитыми и пронумерованными бумажками, сколько ни вчитывайся - ответа не получишь".
Исстари, со времен летописей известно: в документы подчас записывается не то, что есть, а что надо. Но я не удосужился спросить у Княжнина, что его побудило к такой явно оскорбительной для Зубовой "резолюции". В чем вина ее?
Записываю на левой стороне листа - моем поле - первое показание против себя: "Не удосужился!"
Снова переворачиваю - одну за другой страницы - будто перехожу от одного свидетеля к другому. Еще раз останавливаюсь, готовый к вспышке негодования на Княжнина, на роковой строке: Княжнин отказался "выполнить приказ товарища Артакова о наведении порядка в общежитиях. В левом углу приказа учинил непристойную надпись". Какую? Когда это произошло? Смотрю в конец листа и чертыхаюсь с досады: ни одной даты. А ведь грамотные люди должны знать - отсутствие даты под собственной подписью на документе недопустимо. В тресте нежелание выполнить приказ и надпись, учиненную Княжниным, расценили как грубейшее нарушение дисциплины, как выходящее из рамок приличия поведение. И я вынужден был согласиться. Начертал на полях: "Все, что выходит за рамки, - нетерпимо". Княжнину же тогда, во время беседы, сказал, не выслушав его объяснений:
- Приказы надо исполнять, а не рассуждать!
И был, помню, доволен твердостью и определенностью своей позиции.
Сейчас же эта "твердая определенность" не вызывала у меня ни гордости, ни самоуважения. Ведь иные приказы могут встретить сопротивление: из-за неприемлемых целей, из-за предписанных методов их достижения, из-за отсутствия возможности выполнить нереальные требования...
Так по какой же именно причине не выполнен приказ? Заглядываю в один том, другой, скрупулезно изучаю третий - ответа нет. Становится как-то не по себе. Старательно выписываю даты под подписями на документах. И те, что есть, и те, которые можно установить с бесспорной точностью. Получился аккуратный столбец цифр, арабских и римских. Оглядываю их: "Все - после четвертого февраля!"
Удивляюсь вслух:
- Ну и совпадение!
Совпадение? От него веет чьей-то продуманной заинтересованностью. 4 февраля - день, когда Князнин "от подписи в акте о приемке газопровода отказался". А через неделю - завидная оперативность! - материалы о его неправильном поведении были уже в парткоме треста. Первичная организация, оказалась обойденной. Почему?
По намеку, а иногда по команде, иной раз заводят дело, обосновывают его спешно собираемыми бумажками, думают над формулировками, редактируют их. Потом, решив, что все готово, вызывают коммуниста в партком и говорят: "А у нас на тебя материальчик!" Он вынужден отбиваться. Чем попало; так как при таком подходе в торце стола уже не человек стоит, а живая обида.
Я уже не листаю страницы, - зачем заниматься бесполезным делом, - я спрашиваю: кто подал сигнал, сделал намек? Артаков? Кто он такой? Не по должности, а по тому внутреннему содержанию, что открывается, когда титул отделяют от человека, а человека от титула? Бесшабашный нагнетатель темпов с одинаково гибкими совестью и позвоночником? Или это навет? Чем руководствуется он в своих действиях? Советуется ли с людьми? Как навязывает им свою волю - грубо, силой, во имя каприза, эгоистического расчета?.. Или - тактично, опираясь на моральный и административный авторитет, уважение и интересы людей?
А кто такой Княжнин? Какие цели ставит он перед собой, чего хочет достигнуть своими действиями? Защитить интересы государства? Так ли?
Что есть истина? Каковы пути к ней? В чем смысл наказания? Как, не ожесточая сердца и не причиняя страданий, быть верным долгу и самому себе?
...Вопросы, вопросы, вопросы - один рождает другой, а тот - сомнение, догадку, предположение, вереницу ассоциаций, новые вопросы!..
В тишину комнаты врывается звонок.
- Вас вызывает Емцов.
Рабочий день начался.
Надо идти.