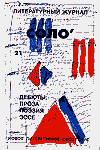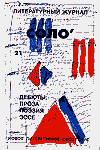Вызовы к начальству не праздник, на встречу идешь, как летчик на сближение с грозой.
К Емцову не заглянешь "просто так". Но двери его кабинета и не царские врата, куда входят только избранные. Туда заходят, как ученик заходит к мастеру - старому, сурово-справедливому. Не к мастеру-ремесленнику, а к человеку, который знает и творит, который по одним ему известным приметам угадает, на что годен материал.
- Как идут ваши дела?
Емцов привычно приглаживает серебристый пушок волос на темени, отодвигает - чуть от себя - телефон. Потом, вспомнив, нажимает кнопку и коротко сообщает вошедший секретарше: "Мы заняты". Я начинаю рассказывать. Но едва я успеваю сказать два десятка слов, как надсадно зазвонил телефон. Он требовал, чтобы его взяли. Ему и дела нет до того, что нередко, идя к руководителю на пять минут, ты остаешься там полчаса из-за этих телефонных звонков, а то и больше. Извинившись: "Я его сейчас отключу", - Емцов поднял трубку:
- Слушаю...
Вот так же однажды я ждал окончания его телефонного разговора, когда в этот кабинет как-то незаметно, бочком вошел человек. Сшитый в свое время "по фигуре" пиджак висел на нем, широкие штаны были длинны и мели пол. Двигался он к столу медленно, маленькими шажками, каждый раз задерживая ногу на полу дольше обычного. "Как спутанный", - подумал я. Больше в его облике вроде бы не было ничего примечательного. Только глаза. Светящиеся изнутри, они неприятно выделялись на его раньше времени постаревшем лице. Когда он подошел ближе, я увидел их и понял, что ошибся, в них таился не вызов, как подумалось, а вера, не растерянная в превратностях жизни и непоколебленная.
Представившись Шатровым, он искренне и горячо благодарил Емцова. Тот сухо ему отвечал:
- Я исполнял свои обязанности.
- До вас многие исполняли эти же обязанности. Эти же, - подчеркнул он. - Но долго, ох как долго, ничего не менялось в моем положении. А сейчас я снова в партии...
- И все равно, - перебил его Емцов, - вам не за что благодарить меня. Я всего лишь плуг; пахарь не я...
Они попрощались. Емцов сидел молча. Старчески красное, словно исхлестанное зимним ветром, лицо его было задумчиво. Я тихонько наблюдал за ним, пытаясь ответить, почему искреннее выражение признательности принесло не радость, а раздумья. Тем временем Емцов подвел чему-то, всколыхнувшемуся в нем, незримый итог и негромко, скорее для себя, раздумчиво произнес:
- Платона мы любим, а истина нам дороже... - Поднял на меня глаза: - Так, кажется, говорили древние?
- Да, примерно так.
- И еще, помните, у Ленина: ни слова на веру, ни слова против совести! Учтите это, товарищ Камов. - Помолчав, добавил: - Ничто: ни административный нажим, ни так называемые "интересы дела", ни дружба, ни родство или любовь - ничто! - не должно заставить нас изменить своему долгу созидать справедливость, ту, которая существует в действительности, а не которая таковой объявляется.
Эти слова Емцова тогда взволновали. В них была жизнь, полная борьбы за человека и с человеком. О всех случаях этой борьбы, подобных тому, свидетелем которого я стал, Емцов, естественно, не помнил. Они никем не были и записаны. Но о них знали. Совсем не "исторические", рассказанные случайными свидетелями, они жили в памяти людей, передавались от одних к другим. И ничего с этим не поделаешь. О человеке помнят не то, что ему хочется: рассчитанное на запоминание, несмотря на усилия, забывается, а объявленное преходящим становится вечным. Вроде бы само собой.
- На нас, - продолжал Емцов, - лежит зачастую обязанность выражать отрицательное отношение к поступкам людей, нередко отказывать им в последней надежде. В отличие от врачей, мы не вправе сластить пилюлю, какой бы горькой она ни была... но мы не вправе уподобляться и подавальщикам у молотилки... которые чуть что сразу кричат: "Давай! Давай! Машина простаивает"... Случается из-за этого, что не тот сноп молотят. За примером ходить не надо, он только что сам был здесь.
Я знавал руководителей, которые нередко, словно древнегреческие артисты, надевали котурны из высоких слов. Не для того, чтобы видеть дальше, а чтобы они сами были видны издалека. Емцов не пользовался котурнами. Вечный боец, он всегда был в центре борьбы. В ней он одерживал не только победы. И он хотел, чтобы мы, его товарищи по работе, были свободны от заблуждений.
- Вы знаете, - говорил он, - часто повторяют: никто не вырастит сад, чтобы не воспользоваться ножницами или топором. Это, конечно, правда, но не вся. Садовник причиняет боль, чтобы дерево цвело, приносило людям плоды и радость; он вместе с жизнью: он садовник, а не лесоруб...
"Эти люди... Они надеются... Они видят в нас, сидящих здесь, в этих кабинетах, не только грозных судей, но и людей с обостренной способностью откликнуться, отозваться на беду, на зов о помощи, отозваться не только умом, но и сердцем... Они надеются..."
Мое сердце бьется часто, коротко, больно.
"Они надеются, а я? Смогу ли я оправдать их надежды? Смогу ли нести доверенное мне бремя? Сумею ли добиться, чтобы справедливость не только была беспощадной, но и находила к каждому свой подход? Сумею ли?"
"Свой подход... Как просто: свой подход..." В памяти всплывает быль, похожая на притчу. Раньше смысл ее ускользал от меня, не поддавался определению. А вот сейчас...
Где-то, вспоминаю я, на окраине, вглядываясь окнами в пустырь, заросший полынью, стоял дом. Недалеко, обегая его стороной, подобно речной излучине, вилась дорога. Вся в ухабах и кочках. Но, оберегая покой этого дома, все, мучаясь, ездили по ней. Пока одному шоферу путь этот не показался неудобным и долгим. Чтобы сократить его, он проехал около дома; проехал раз, другой... а там уже гудит самосвал под окнами, месит грязь и днем и ночью. Взяла тогда женщина, хозяйка дома, толстую лесовину и перегородила ей незаконную дорогу. Только не остановила крепкая лесовина того лихого шофера - смял ее под колеса, словно жердочку, и ездит себе...
Как тут поступить, что сделать? Написать жалобу, на которую обязаны отреагировать? Или пересечь хотя и грубым, но действенным словом? "Уж я думала, думала", - призналась женщина и решила посадить на пути машины цветы. Разбила она на пути машины небольшую клумбу. "Будь что будет". И... шофер тех цветов не помял.
Шаги в коридоре наполнили его жизнью. За дверью кто-то говорил:
- У него нет главного - самого себя. Он весь состоит из внешних влияний...
С ним соглашались:
- Да, формально делает, а большевика в нем нет...
Шаги удалились. "Где я слышал эти слова?" Ответ не приходил. "Какое это имеет значение? Главное - они справедливы. Но, о ком, о ком это сказано?"
Телефон! Его чуть приглушенный звонок всегда мне кажется криком о помощи. И я, точно вахтенный матрос, бросаюсь на вызов:
- Слушаю вас.
Но тревога оказалась ложной. Звонил Токмаков - один из ушедших когда-то из кабинета. Он пробыл в партии пять лет. За пять лет все убедились, что он, как редиска: сверху - красный, внутри - белый, и исключили за обывательщину и политическую гнилость.
Да, этот звонок поставил меня перед трудно разрешимой проблемой. Я, конечно, могу не принять Токмакова. Но, когда я сказал: "Нам незачем встречаться" - в моем голосе не было ни уверенности, ни решительности. Я знал: Токмакова это не остановит. Используя или человеческие слабости, или недостатки в нашей работе, или, наконец, долготерпение людей, он проникает в какой-либо кабинет (решение сержанта можно обжаловать даже старшему сержанту) и оттуда последует звонок:
- Что же вы? Отказываетесь выслушать?..
Надо отвечать.
- Не отказываюсь, но его слушали двенадцать комиссий, не считая моего предшественника и меня.
На другом конце провода молчание, будто там споткнулись.
Затем снова:
- С одной стороны, конечно, это так, но с другой... Встретиться все-таки надо бы... Еще раз... посмотреть, изучить... А?..
Это просьба.
- Зачем? Все не раз и уже не два все просмотрено, изучено, обсуждено. Так что же мне с ним кровь на воду переводить. Да и время жалко...
Реакция молниеносна.
- Причем здесь время? Живой человек дороже времени! -Голос усиливается, крепнет. - Вы встретитесь с ним, сегодня.
Это указание, на него натыкаешься, как на острие ножа.
И все-таки, несмотря на возможность такого поворота событий, я прихожу к выводу: мне надо выслушать Токмакова по телефону и попросить написать еще одно заявление и пообещать дать на него ответ, разумеется, в письменном виде. Понятно, что в папке у Токмакова прибавится еще одна бумага. На нее он будет ссылаться и с помощью ее будет шельмовать меня позором: "Бюрократ, чиновник! Мы еще посмотрим, чья возьмет!"
Словно мы с ним в разных командах по перетягиванию каната.
Такая перспектива, естественно, не может радовать. Но она станет реальностью когда-то потом, а сейчас надо сберечь время: сегодня я еще надеюсь заняться делом Княжнина. Его письмо лежит на столе, прямо у меня перед глазами. И я повторяю в трубку:
- Товарищ Токмаков, поймите, нам незачем встречаться.
Козырные карты всегда придерживаются для решающего хода. Есть они и у Токмакова, и он их выкидывает.
- У меня в руках отзывы старых товарищей, они не потеряли веры ни в меня, ни в справедливость. Это новые документы.
Новые документы он имеет право предъявить мне, а я обязан взять их и выслушать его.
- Хорошо, заходите... через полчаса. Вас это устроит?
Его это, конечно, устраивает. Через полчаса долгие часы мы будем вести изнурительную игру "в права и обязанности", и к ней надо приготовиться.
Я позвонил:
- Принесите мне персональное дело Токмакова.
- Что, трудно быть партследователем? - входя в комнату, спрашивает меня Чужинов. Я ничего ему не ответил. Он-то, по существу, никогда не был ни судьей, ни следователем, он только разглагольствовал об этом. Он был ремесленник. С большим опытом, сноровкой, навыками, знаниями тех мелочей, которые много значат в лабиринтах канцелярий. Время привело его к искреннему убеждению: чем больше, тем лучше. И похвала: "В этом месяце товарищ Чужинов сделал больше всех" - давно стала для него светом маяка. Когда же ему говорили об этом, он защищался с злой одержимостью обреченного.
И сейчас обиженно громыхал:
- За моими плечами столько лет стажа. А он меня уличает. Да еще как! Знаешь, говорит, милый: бьют не по годам, а по ребрам. И имейте в виду, говорит, человек, разменивающий совесть на услужливую готовность флюгера, должен уйти. Это я-то - уйти?! Я столько лет иду, никуда не сворачивая. Такой стаж...
Для меня эти монологи не были чем-то новым. Они повторялись всякий раз, когда Чужинова хоть как-то задевали. В них не больше разнообразия и смысла, чем в обвинениях, которые бросает властям споткнувшийся на тротуаре о камень. Он не уберет его: ему важно не сделать, а сказать. И потом с чувством исполненного долга можно, подобно трамваю, катиться дальше по кругу жизни: туда и обратно. И снова: туда и обратно. И снова... И снова...
Ведь мир трамвая так удобен. Здесь царит четко определенный и строгий порядок, здесь всякое движение вперед, всякая остановка заранее предусмотрены правилами: здесь есть разрешающие и запрещающие огни, сигналы; здесь сам факт движения - это не то, что следует еще наметить, обосновать, а, напротив, есть конечное обоснование всякого действия, истин и оценок. И главное - прочно держаться на рельсах и хорошо выглядеть.
- Ты что молчишь? - вдруг остановившись спросил Чужинов. Маленький кадык дернулся, и по шее к ушам поплыли жирные волны.
- Думаю.
- О чем?
- О судьбе, которой гляжу в глаза.
- У-у, какие у тебя мысли!
Мне не хотелось продолжать этот разговор. И я, чтобы самому лучше постигнуть смысл, начал посвящать его в свои "открытия", сделанные вечером и утром. Рассказывая, я "видел" место действия - поселок строителей и геологоразведчиков. Мне пришлось быть там однажды. В бескрайнем царстве песков он был островком иной цивилизации. Ветер и солнце - два ее истинных хозяина - делали жизнь человека в пустыне, казалось, невозможной. Но пустыня была не только кладбищем природы, она была и ее кладовой. И ради блага людей человек переступал невозможное.
- Может быть, случившееся, - рассуждал я, - есть следствие усилий, что прилагают люди, стремясь вырвать у пустыни ее богатства? Тогда трудности дают право, если не на скидку, то на льготы, как выразился Княжнин. А может быть это конфликт нескольких хотений, столкнувшихся эгоизмов?
Чужинов молча ходил по комнате. Он весь был воплощение глубокомыслия и ответственности. Когда-нибудь он, кстати, скажет: "Он сделал так, как я ему советовал, и оказался прав". Или наоборот: "Я еще тогда говорил ему..." И будет считать, что выполнил долг. Привыкнув к своему давно уже не расширяющемуся внутреннему миру, он не добывает истины, а занимает их, глотая ценности и принципы, выработанные другими, как утка глотает гальку. Она потом долго остается в желудке, помогая переваривать пищу, которую подбрасывает жизнь. Меняется мир, меняются люди, но не меняются камни. Стираясь, они остаются тем же, чем однажды вошли в организм.
- Ты, понятно, - начал он, - правильно говоришь. Только мудрено больно. Я бы на твоем месте не вносил это дело опять на бюро. У меня было однажды что-то подобное. Тоже строили, пускали деньги на ветер. Так я его раз, - и Емцову: вы, говорю, начальство, вам, говорю, виднее. - Он довольно потер руки. - Остальное меня не касалось. Его подпись, его печать, ему и отвечать. Вот и действуй, как я.
Я отрицательно покачал головой. Чужинова это не обескуражило.
- Ну, ладно, не действуй. Но зачем разводить философию? Княжнина наказали? Наказали. Значит, виноват. Он к нам попал? Попал. А раз попал, нельзя его просто так выпускать. Ты взял факты и видишь: было. Ну может не настолько, не так, как изобразили, но было. - Он покровительственно хлопнул меня по спине. - Дыма, дорогой, без огня не бывает, на этом стой. На этом не прогадаешь. Понял?
- Но это не аргумент.
- Это мудрость народа! - отрезал Чужинов, готовый ринуться в бой за народ.
- Давай не будем, - махнул я рукой. - Извини, но у меня много работы.
- Я тоже не безработный.
И Чужинов удалился, уверенный в ущербности моего духа.
Ну что же, теперь можно приступить. Я все досконально продумал. Один за другим я пишу запросы и отношу их в машбюро - эту комнату переодевания слов. Туда они вошли недописанными, с нечеткими буквами, а вышли совсем иными. В подчеркнуто скромной одинаковости одежды. Переодевание это позволило мне взглянуть на текст как бы со стороны и увидеть прикрытые раньше неразборчивым почерком изъяны: "Придется перепечатать!.." Машинистки сделали это молча, без укоров: великодушие всегда было их отличительной чертой. И я, каясь, воздаю им хвалу!
А тем временем, как бы захлебываясь от нетерпения, перебивая самого себя, звонил телефон. "Междугородняя!!" Отставив все дела, я поднял трубку. Где-то шумели грозы, и провода приносили их разряды сюда, в комнату. Пластинка мембраны отзывалась на разговоры по линии, треск переключаемых контактов, сигналы радиомаяка, переругивание телефонисток. Казалось, что вся большая семья шумов, став единой, собралась, чтобы мешать разговору.
- Абонент занят.
- Я подожду...
- Абонент не отвечает...
- Поищите, пожалуйста...
- Это не входит в мои обязанности... Да у них и рабочий день давно кончился.
- Мне надо...
- Всем надо. Я перегружена...
- Мне надо... помочь... человеку... поймите - на-до... уж будьте добры...
Это косноязычие умиляет телефонисту. Получив таким образом сатисфакцию человека, она ласковым голосом проговорила:
- Человеку помочь я могу.
И начала включать один номер за другим, пока на далеком конце не откликнулись те, к кому я обращаюсь с просьбами разъяснить, ответить, уточнить, подготовить, выслать все, что, по моему мнению, недостает, что мешает увидеть истину.
Так разослал я в разные концы своих гонцов. Теперь я буду ждать, как ждет садовник, пока из крупинки семени распустится цветок.
Разумеется, мы привыкли ждать.
Ожидания - часть нашего ремесла. Время ожидания, даже если оно, подобно городскому транспорту в часы пик, забито неотложной, спешной работой, исполнением поручений и житейскими заботами, все равно оставляет возможность для размышлений. Наступает момент, когда не надо никуда звонить, относить, приносить, и ты отдаешься раздумью. О многом и о многом, и о самом ожидании прежде всего.
Ожидания - неотъемлемая часть нашей жизни. Нередко от них устаешь больше, чем от всего остального. Словно хищная стая окружают они нас и никогда не остаются без добычи. Ею становится наше время: общественное, личное, бытовое. Особенно бытовое - достаточно вспомнить ожидание в очередях. Минуты такого ожидания текут, как бесцельно пролитая кровь.
День проходил за днем. Один за одним возвращались "гонцы", которых я посылал. И каждый из них подтверждал: до цели далеко. Наконец, все ответы были у меня на столе. От повторного ознакомления с их содержанием мне ждать нечего. Так, кроме скуки, не ждешь ничего от встречи с говорливыми, но пустыми знакомыми. Но они пришли в дом, и ты, скучая и злясь, занимаешься ими: долг.
И вот лист за листом перед моим умственным оком проходят документы, присланные отовсюду. На некоторых я задерживаю внимание, вчитываюсь в слова и фразы, задаю вопросы, ищу ответы. Другие просто переворачиваю не спеша, третьи проплывают где-то в подсознании кадрами замедленной киносъемки, не оставляя после себя ничего, кроме многословного описания самоочевидного.
Перечитываю письмо Княжнина, переданное Емцовым. Задерживаюсь на утверждении: "Наказали меня ни за что". Согласиться с этим нельзя. Ошибиться могли, думалось мне. Но наказать ни за что, - невероятно! В такой ситуации это страшно себе и представить.
Чтобы убедиться в правильности своих выводов, пытаюсь вновь и вновь тщательно осмыслить все данные, все факты, которые есть. Только осмысление может найти то место, где каждый из них должен лежать.
Допустим, пресловутая "интуиция" и новый пересмотр "персонального" побудили бы меня сказать: "Решение подлежит отмене". Но одно - сказать, а другое - сделать! Круг княжнинского дела охватил огромное количество живых людей: и те, кто жаловался; и те, кто свидетельствовал, кто обвинял и требовал решения, и кто принимал его; кто расследовал и кто судил!..
Тяжкий вывод, но я должен побывать на месте!
Емцов словно ждал моего прихода. Он принял меня тут же, хотя у него сидели работники отдела строительства обкома, начальник главка министерства и Чужинов. У них, видимо, шел разговор о делах треста "Нефтегазстрой". Ибо только я сказал, что считаю необходимым выехать туда для проверки материалов, как Чужинов, явно стремясь опередить других, выкрикнул:
- Не вижу смысла!
Меня всегда бесит стремление людей влезать в дело, в котором они только прохожие. Но поведение Чужинова я принял как заведомо ожидаемое.
- Сколько инстанций рассматривали это дело? - допрашивал меня Чужинов. - И все они приняли одинаковое решение? Что хочешь ты? Уж не реабилитировать ли Княжнина? Теперь это модно...
И руки его упали в отчаянии; он не согласен, но что проделаешь с модой!
- Больше Княжнина в реабилитации, если уж придерживаться этой терминологии, нуждаюсь я, - возразил я ему.
- Почему? Ты не наговаривай на себя, - оберег он меня. - Ты совсем неплохо в этой истории выглядел.
- Я хочу быть, а не выглядеть.
- Пожалуйста, - разрешил Чужинов. - Но прежде, вслед за стариком Спинозой, спроси себя: не покидаю я блага меньшие, но верные, ради блага гадательного? Я думаю - покидаешь. А зачем? У тебя вон сколько фактов. И не ты один принимал решение...
- Погоди, - остановил я Чужинова, - ты хорошо знаешь, что истина, которую мы своей работой обязаны раскрыть, это не одни голые факты. Она и не суждение коллегии лиц. Все мы уходим. А она остается. Ее справедливость через десять и двадцать и тридцать лет должна быть еще более убедительной, чем через год, три или пять. Для этого истина должна быть истиной. Тогда не будет нужды реабилитировать - ни меня, ни Княжнина, ни кого другого. Ты все это знаешь, а советуешь?!
- Так вот как вы заговорили, - перешел сразу на "вы" Чужинов. - Значит, вановаты мои советы? Значит, я не то советую. Значит, я...
- Да, нет же.
- Как нет?
- Да, так...
- Ну, если так, то слушай...
Мне совсем не хотелось слушать Чужинова. И я с надеждой поглядел на присутствующих. Но они не вмешивались в наш спор. Они наблюдали, никак внешне не выказывая своих подчинений.
- Так вот, - продолжал с нажимом и с затаенной обидой в голосе Чужинов, - изволь стерпеть и еще совет мой. Нами досконально изучено персональное дело. А оно состоит из проступков, действий, фактов. И они в деле. Там их искать надо, а не на месте. Лезть в жизнь коллектива - не наше дело. Это, насколько я знаю, - общая точка зрения.
Да, такой точки зрения придерживался не один Чужинов. Значительное число работников смотрело на проверки как на какой-то выход за пределы "положенного". Но Емцов всегда с досадой и скукой выслушивал подобные сентенции. И я ожидал, что он прервет Чужинова, но он вел себя так, будто происходящее его не касается.
- Когда вы сможете выехать?
- Через день-другой.
Емцов кивнул соглашаясь и, обращаясь к Чужинову, заговорил:
- Я знаком с делом Княжнина...
Наконец-то! Период заинтересованного нейтралитета закончился. Такой поддержки я уже и не ожидал.
- ...поэтому хочу высказать свое мнение. Вы, Чужинов, держите курс на работу в тихих условиях. Приходит к нам апелляция, мы ее, как говорят, разбираем. Одного наказываем больше, другого меньше, третьего исключаем либо восстанавливаем. А в глубину конфликта, в корни, из которых он вырастает, не лезем. И то, что вы тут произносили - это позиция провизора, скрупулезно отмеривающего - выговор, выговор с занесением, строгий выговор... Взыскание, несомненно, должно соответствовать содеянному, но взыскания существуют не ради самих себя. Нужность и мера взыскания определяется одним: как и в какой мере оно служит и отдельному человеку и партии в целом.
Емцов встал, оперся ладонями о стол, навис над ним большим телом, точно глыба, которую не уберешь с пути, да и обойти трудно. Его хриплый голос завзятого курильщика подвинулся к нам, зазвучал сверху, решительно и жестко.
- Если правильно подойти к тому, что на нас возложено, то многие апелляции надо воспринимать как сигналы о недостатках в жизни организаций и на этой основе ставить вопросы их работы в целом, помогая им крепить дисциплину. Персональное дело - это не скопище бумаг, а повод вызвать движение сил, как активных, так и нейтральных, заставить их служить интересам партийного, советского сознания.
Емцов выпрямился, взял из подставки пучок карандашей и, сжимая их в такт шагам, начал ходить за столом.
- ...Мы советовались с Домбаровым: Камову надо выехать на место и не медля. Там жизнь, и факты там будут живые. Обстановка в тресте, судя по всему, неблагополучная - групповщина, склоки. аллилуйщина...
Зазвонил телефон. Емцов искоса смотрел на него, не двигаясь. Так смотрят на кричащего ребенка, решая брать или не брать его на руки. Наконец, коротко звякнув, телефон умолк. И в небольшом, без казенного великолепия обставленном кабинете, снова зазвучал голос Емцова. Каждое слово для меня было как благовест, вызывало вереницу образов, мыслей и ассоциаций, не всегда приятных, но укрепляющих веру в правильность сделанного выбора.
- Перед каждым из нас, кто занят разрешением персональных дел, - говорил Емцов, - стоит задача сохранить борцов. На каждый проступок надо смотреть с центральной точки: что такое партия и человек в ней. В коммунисте надо прежде всего искать борца за коммунизм, а не чистоплотненького, добропорядочного мещанина. Прав Княжнин: у нас есть не один десяток коммунистов, которые половину дня выступают в роли благочестивого, святенького члена партии, а вторую - живут частной жизнью мещанина. На словах они за линию партии, а на деле устали за нее бороться. - Хрустнул карандашами, словно проверяя их прочность. - Мы - не провизоры и не святоши, мы - члены борющейся партии. Основой нашей жизни является борьба, интересы борьбы, а не святость, а не то, чтобы никто и никогда не допускал ни одной ошибки. Для нас важнее борьба и успех, чем абсолютная святость. Иначе нам следует отказаться от борьбы.
Он продолжал.
- Человек всегда вправе рассчитывать на понимание, когда он не устоял, обессилел в борьбе со злом и, наткнувшись на стену формального отношения, взорвался. Дерзословие - безусловно - плохое оружие. Но чтобы оценить человека, принять верное решение - одной ссылки на дерзословие, которое он допустил, одного описания фактов недостаточно. При таком подходе вредного для партии оставим, а хорошего - исключим.
Сел в кресло, пригладил пушок на голове и привычно спросил:
- Кто-то желает высказаться?
Первым на приглашение откликнулся начальник главка.
- Должен или не должен Камов ехать - решайте вы. А вот что касается проверки обстоятельств приемки газопровода, то, по-моему, тут и проверять нечего. Газопровод принят, акт министерства утвержден, сведения в инстанции о его вводе даны... Так что я, товарищ Емцов, возражаю...
Лицо Емцова стало пунцовым. Сдерживая себя, он заговорил:
- Нас не интересует, кому и какие сведения вы дали. Нас интересуют прежде всего люди, их действительные интересы, а не отчетные показатели. Мы строим коммунизм своими руками, и для себя, а не для рапорта в инстанции... Это-то, надеюсь, не вызывает у вас возражений?
И, повернувшись ко мне, деловито спросил:
- Когда сможете выехать?
- Дня через два.
- Не медлите.
Опускаемые в бокал карандаши дробно застучали о дно подставки.
Земля с высоты полета видится удивительно, геометрически прибранной. Все расставлено строго по своим местам, все целесообразно, все без изъянов.
Снижение, однако, вносит отрезвляющий разлад в эту красочную издали мозаику. Она теряет свой открыточный вид; она распадается: на поля ухоженные и поля, разъеденные метастазами оврагов; на одетые в железобетон, прямые, как стрела, шоссе и тряские проселочные дороги; на дома, стремящиеся ввысь, и дома, вросшие в землю. Людей с этой высоты не видно совсем.
Так бывает, когда все ближе и ближе подходишь к картине, писанной масляными красками. Она распадается на грубые мазки, на комья красок, небрежно наляпанных и засохших.
Не происходит ли во времени нечто подобное с нами? Детство - период согласия и радости, самолет летит на самой большой высоте; юность - это снижение, мы уже начинаем сознавать, что земля - не пастушья лужайка, а люди - не ягнята на ней; зрелость - это приземление, и все плохое и хорошее, как дороги внизу, сплетается в судьбах людей. Мы говорим: "Мир, он сложен... Его надо видеть таким, какой он есть".
Ну, а если?.. Тогда приходится повторять: жизнь есть жизнь. Она рождает своих подвижников, своих героев, людей совестливых, честных, принципиальных, смелых. Но она же рождает ловкачей, интриганов, приспособленцев, молчальников и угодников. Внутри одного народа, в одно и то же время.
Жизнь надо видеть такой, какая она есть. Для того чтобы вывести себя из заблуждений. Для того чтобы участвовать. Чего я стою, если я не участвую? Если я не чувствую себя сопричастным к делам, горестям и заботам людей всей земли?
Но чтобы участвовать, надо быть. Быть - это состояние. Оно не создается в один присест, вспышкой энтузиазма. Подобно дереву, оно вырастает медленно, вбирая в себя все лучшее, что есть у нас и вокруг нас. Вырастает ли оно - зависит от каждого из нас, ибо каждый прежде всего сам творит свой внутренний мир, делает свой выбор, отдает предпочтение одному из многого, сам занимает позицию, сам делает выводы из уроков, преподанных жизнью. Иногда проходят годы, а, смотришь, казалось бы, и на благодатной почве чахнет жалкий куст. Но винить в этом некого. Только себя.
Кажется, только сейчас я начинаю понимать настоящую причину своих неудач. Она не в Чужинове. Зачем винить Чужинова? Он отдавал, чем владел. А я брал, ничего не привнося своего, ничего не изменяя, ничего не добавляя, повторял пройденное, двигаясь по кругу, точно слепая лошадь у ворота. И нет в этом вины Чужинова. Как нет ее в действиях цехового дядьки, к которому и сейчас приводят учеников.
Делать, что делали другие, - значит повторять. Но одно лишь повторение - всегда, в любой области, - отставание.
Жить - значит вновь и вновь находить неузнанное в известности, глубокий смысл в кажущемся заурядным или невозможным, в старом - новое и, преодолевая отчуждение вещей, слов и понятий, делать их частью себя. Иное было бы слишком просто...
...От кресла к креслу царственно движется стюардесса. Наклоняется то к одному, то к другому, будто принимает у них откровения.
Чтобы завладеть ее вниманием, жалуюсь для начала:
- Вот ноги... девать некуда...
Улыбнувшись, успокоила:
- Громоздкие вещи рекомендуется сдавать в багаж...
И ушла вся в синем, точно струйка газового пламени.
Я снова закрываю глаза... Холодок приземления подступает к сердцу...
Аэропорт назначения.
После такого полета хочется пройтись, почувствовать землю, ее притяжение. Оглядываюсь: куда направиться? И вижу - меня ждут... ко мне идут... меня приглашают: "Надо ехать".
Да, надо ехать.
Окружающий мир снова приходит в движение.
В зеркальце водителя видно, как поворачивается, плывет наперерез желтоватое, далеко ровное и малознакомое пространство. Мне предстоит освоить его; неуверенно я делаю к этому свой первый шаг: робко выставляю из машины руку. В ладонь, откидывая ее, бьет поток воздуха; он упруг, как вода, но без капли прохлады: за стеклом пустыня, бесприютная и утомительная в своем однообразии.
Расстояние ничего нового не вносит. Километр за километром повторяется одно и тоже: черные камни, похожие на бородавки, с иссохшими пучками травинок на верхушке, бугорки песка, застывшие в дали дюны... Будто смотришь на экран телевизора, где бесконечно долго показывают одну и ту же заставку.
Декорации пустыни меняет только ветер. Странное и тягостное впечатление, однако, производит эта смена. Вот ветер пригнал - невесть откуда - облака, гостей в здешних краях весьма редких. Медленно надвигаясь на солнце, они метр за метром занавешивают, заслоняют его, владения тени стремительно растут, и все вокруг как-то заснет, чернеет, обугливается; все становится безжизненным и бесприютным, как на земле, опаленной нестерпимым жаром гигантского взрыва.
Останавливаемся. И все застывает, как на хромолитографии. Движутся только крупинки песка - бесконечно и слепо. Гонимые ветром, они бьются об иссохшие стебли травинок, обтекают их, либо, обессиленные, ложатся вокруг, засыпая час за часом единственные признаки некогда бушевавшей здесь жизни.
Мнится, что присутствуешь при погребении, наблюдаешь апофеоз все-таки происшедшей вселенской катастрофы и думаешь: "Неужели это когда-нибудь свершится?.. Неужели разрушительная сила человека когда-нибудь превзойдет созидательную? После нее продолжать нести свое земное бремя в цепи смертей и рождений человек уже не сможет". Но как поверить в это?!
Взор невольно устремляется вперед. Знаешь: там такой же песок, текучий и мертвый, там не начало, а глубина пустыни, и все же глядишь... и видишь: там, у горизонта, куда падают скользящие за облаками ленты света, там золотом жнивья сияет песок, словно там, вдали пшеничное поле, полное труда и покоя.
И машина - одно из многих сколь дружественных, столь и враждебных нам порождений прогресса - ускоряя свой бег, мчит нас к пределам опустившейся тени, будто навстречу новому дню.
А я продолжаю свое молчаливое бдение. Мое молчание может мне не проститься. В самолете я был пассажиром. Здесь я гость. Должностное лицо. Проверяющий. Меня встретили. Везут. И мне стоило бы перекинуться со своими спутниками несколькими фразами. Молчание может создать обо мне впечатление нелестное как о человеке напыщенном и сановном.
Когда перед отъездом я спросил Емцова, сколько дней я могу пробыть в командировке, он ответил:
- Срок решающего значения не имеет. Каким бы он ни был, в командировке все временно: и задачи, которые надо решить, и возможности, которыми располагаешь. Там ко всему надо прилагать духовное усилие, искать, думать и выбирать.
Вновь и вновь повторял:
- Командировка - это нечто значительное... Как сражение. Еще не начавшись, оно требует знать здесь, что и как будет там, впереди.
Он заботливо наставлял меня:
- Продумайте, здесь продумайте, пути и способы осуществления проверки; линии и направления развития событий; действия и контрдействия. Обозначьте возможные препятствия и возможности преодоления их... Все продумайте, и тщательно! Так же тщательно, как инженеры разрабатывают технологию превращения руды в металл..
Я понимал: работать, добиваться целей без плана - точного, рассчитанного до деталей, до минут - в теперешних условиях нельзя. Так же как нельзя строить здание без рабочих чертежей, имея только общий вид задуманной постройки. Без рабочих чертежей он всего лишь картинка, красивое пожелание. Мы - люди организации - это знаем.
Полное молчание во время длящейся езды помогает мне думать и всматриваться в предстоящее мне.
Я думаю: мне нужны помощники. Мастера, экономисты, бухгалтеры, механики, геодезисты, нормировщики... Один с предстоящим объемом я не справлюсь. Без специалистов мне не обойтись. Имея дело с проступком инженера, невозможно игнорировать то, с чем имеет дело он: деньгами, технологией, временем и людьми. А без специалистов во всем этом я не разберусь.
Свою задачу я вижу в том, чтобы помочь своим помощникам одинаково чувствовать, чтобы одинаково действовать. Мне надо найти слова и образы, которые помогут разрешить эту проблему.
Еще мне надо подготовить и вручить своим помощникам вопросник; письменный вопросник, своего рода инструкцию: что проверять; зачем проверять; где проверять; как лучше это сделать.
Прикидываю: через день, нет через два, они разъедутся по объектам. Чтобы выполнить свой долг: ни слова на веру, ни слова против совести. На нас лежит ответственность - проверить персональное дело Княжнина, за этим я прислан!
Я оборачиваюсь к спутнику своему, к товарищу Лавреневу, который был прислан встретить меня и сопровождать:
- Далеко еще?
Он долго угадывает, где мы, опознавая пустынную местность, и отвечает:
- Скоро приедем.
И тут же с какой-то поспешностью, вызывающей неловкость, щелкает перед моей сигаретой зажигалкой. Это движение насторожило меня еще больше. Впервые чувство неприязненной к нему настороженности возникло у меня еще в аэропорту. Пожимая при встрече руку, он сказал:
- Мне поручено вас сопровождать.
- Зачем это нужно? Я не турист и не премьер-министр дружественной страны.
Он улыбнулся вежливо.
- У нас так принято.
Внутри у меня все вскипело. "Плевать мне на это!" Тот, кому поручается сопровождать проверяющего, знает: он должен здесь найти и там не потерять; сумет показать хорошее и увести от плохого. А мне нужен помощник, который бы не отводил, не мешал, не стоял в стороне, а лез в драку за истину.
Сопровождающих - одного, двух, трех, а иногда и больше - таскаешь за собой, как каторжник ядро. Из-за толпы сопровождающих самое ремесло твое кажется порой ненастоящим, ненужным, стыдным, как отсиживание в холодке в дни жаркой и напряженной работы. В такие минуты остро завидуешь жнецу, столяру, землекопу, завидуешь, потому что они всегда при встрече с тобой, кивнув на результаты труда своего, могут сказать: "Я сделал это своими руками". И выпростав их, загрубелые в тяжком и плодотворном труде, добавят: "Вот этими".
Я никогда не слышал от них в свой адрес осуждения или неодобрения, но я не раз читал в их глазах вопрос: "А что сделал ты своими руками? Изловил истину? А что это такое?"
Каждый из них что-то знает, с чем-то по-своему не согласен. Их человеческая неповторимость помогла бы мне лучше понимать, зорче видеть, глубже мыслить. Ведь в их нескладных словах, стеснительной неуклюжести, неторопливой степенности, столько настоящего, истинного, неподдельного. "С ними бы сесть, поговорить..."
Но разве поговоришь, если сопровождающие каждую их фразу комментируют, дополняют или перехватывают, словно перебежчика.
И все-таки я вынужден терпеть сопровождающих: так принято. И ходить с ними, замечать их попытки перевести разговор на другое, прикрыть "прорехи", обойти неприятное. И слушать разъяснения ясного, идти туда, куда ведут, знакомиться с тем, с кем знакомят...
Снова оборачиваюсь к Лавреневу и, всматриваясь, сталкиваюсь со спокойным и твердым взглядом человека, ценящего свою внутреннюю человеческую независимость и безбоязненное суждение. Это наблюдение изменило мое первое впечатление о нем. Оно изменило все. "Ну, теперь живем!" Оно согрело душу и вселило уверенность: "Рядом крепкий товарищ!" И я улыбаюсь.
Командировка - это плавание по извилистым фарватерам людских судеб и характеров. А корабль, на котором я собираюсь отправиться в путь, не корабль вовсе, и я не капитан, даже не шофер, повинующийся дрожи многочисленных стрелок, что перед ним на панели. Но я все равно улыбаюсь: "Рядом крепкий товарищ". И еще я надеюсь, на многое надеюсь. Хотя в главном думаю положиться на себя.
И вот я встречаюсь с людьми. На работе и дома, с молодыми и пожилыми. Они приходят и уходят от меня, торопливо или неспеша. Одни радостно улыбаясь, другие о чем-то задумавшись. Я слушаю исповеди и веду честный спор. Вникаю в обстоятельства, обусловившие действия, и оцениваю действия, изменившие обстоятельства. Узнаю, что думают люди о происшедшем, самые разные и выясняю причины сложившихся различий. Анализирую поступки, одетые в слова, и вдумываюсь в смысл слов, чтобы постигнуть сущность поступков.
Так оживает перед вами страна, которую вы впервые посетили. На карте вы уже видите не пятно, окрашенное в определенный цвет, а города, улицы, человеческие лица, взгляды, слышите их живые голоса.
"Все началось с радиограммы!" - Вачик Каграмян - один из семи, которых "ушли" из треста "по собственному желанию" - произнес это, еще не переступив порога, не прикрыв двери. И сейчас, присев напротив, он, словно заклиная меня, повторяет одни и те же слова:
- Все началось с радиограммы!
Соглашаюсь:
- Возможно, с нее. А мы начнем не с нее. - Выкладываю на середину стола сигареты, спички; пододвигаю пепельницу. - Расскажите-ка лучше, как вам тут жилось-работалось?
Вачик в недоумении: к чему этот вопрос? Он ему кажется неуместным. Как же: его товарищ в беде, он хочет ему помочь, он знает, почему и с чего все началось, а тут: как жилось-работалось. Будто мы у камелька. Будто он ехал сюда за тем, чтобы посидеть, покурить, повспоминать: "А помнишь?.. Вот было время..." и разойтись, как расходятся пенсионеры с городских бульваров. Нет, не за этим он сюда ехал. И сейчас он об этом скажет, и резко, не заботясь о последствиях.
Вачику есть что сказать. Людям всегда есть что сказать друг другу. Разговор человека с человеком - это всегда нечто значительное - как встречи двух миров.
Я просто взглядываю на Вачика, - взглядываю в надежде, что он видит во мне друга. И мне кажется, что моя надежда реальна.
Вачик все еще морщит в полуулыбке губы: к чему, мол, этот заход издалека, когда все началось с радиограммы?
Мну пальцами туго скрученный табак сигареты, молча злюсь: легче поджечь мох на болоте. Уже пятая спичка жжет мои руки.
- Наконец-то!
С жадностью втягиваю в себя едкий дым. Раз... другой... Досады как не бывало. Умиротворенный, разглядываю растущий столбик сигаретного пепла.
Пройдет несколько минут, и нахмуренное лицо Вачика просветлеет. Пройдет время, и Вачик расскажет, как им здесь жилось, как работалось. Это будет дверь, через которую я попаду в то время. Внимая его словам, я проживу в нем их жизнь, перемыслю их мысли, перечувствую их чувства, заново переспорю их споры... и приобщусь к миру их отношений, чтобы увидеть, как рождались, накапливались, сплетались в тугой узел противоречия, что порождали этот конфликт, питали его и двигали - от инстанции к инстанции, от обсуждения к обсуждению, от начала к концу. Все станет близким, понятным для разума и для чувств, словно все это произошло с тобой самим.
Спрашиваю:
- На жительство-то устроились?
- Когда было-то! Прямо из кабины - в кабинет. Пыль даже не стряхнул. - Он ударил по жестким черным кудрям, и вверх взмыло облачко. - Полтораста верст... На пяти видах транспорта...
- Устали, наверное?
- Что вы! - обиделся Вачик. - Было время - уставали...
Было время - в конце дня они еле-еле дотягивали до общежития. Один за другим, подобно свету в окнах большого дома, выключались участки сознания. Приказы мозга становились не действительными. "Спать". И тело, будто сноп, падало, летело в пропасть.
Вачик сказал также, что в институте из них готовили инженеров, а здесь нужны прорабы. И добавил:
- А это не одно и то же.
Потом попросил:
- Не спорьте, не одно и тоже.
Зачем мне спорить? Я знаю, что это так. Всякий, кому пришлось начинать на стройплощадке, а не в длинных, пахнущих пылью коридорах проектных контор, знает, что это не одно и то же. Всякий знает, что прораб - это и швец, и жнец, и на дуде игрец. В однообразном, на земле ухающем, свистящем, рокочущем, а где-то в поднебесье переходящем на одну звенящую ноту гуле стройки, заботится он о выполнении плана и заработке людей, о качестве бетона и экономии гвоздей, исправляет чертежи и врачует души. Подгоняет, организует, "находит выходы", напоминает, достает, отчитывается... Все это вместе взятое образует его рабочий день, ту кипяще-суетную коловерть жизни - не книжной, где добро и зло четко разделены, как бы хитроумно ни велось повествование, - а реальной, земной, в которой надо знать, сметь и мочь.
Раньше из трудов и изречений моралистов, философов они, эти молодые прорабы, не извлекали ни одного полезного для себя совета. Теперь же высказывания и обобщенно-житейские поучения обретали действенную реальность; как будто сами авторы бродили с ними по пыли стройплощадок, спорили на планерках, сидели на койках общежитий. Зато формулы в пол-листа, законы сопромата и термодинамики, которые они заучили наизусть, казались им теперь на прорабстве грудой мертвых сучьев не более нужных, чем ветошь.
- Мы страшно завидовали "старичкам", - рассказывал Вачик. - У них всегда было все в порядке: и объемы, и расход материалов, и фонд зарплаты... А у нас... Однажды, когда Княжнин закрывал наряды. мучился, как свести концы с концами, к нему подошел один из них, спросил: "Что, студент, мала смета-то?" А потом предложил: "Давай помогу". И помог. Один коэффициент заменил на другой, категории грунта поставил такие, будто мы не песок лопатили, а кремень дробили... Но Княжнин - вам не надо объяснять, вы знаете его - в своих нарядах он поставил все как было, а вот чужие по его настоянию и с нашим участием проверили. Туфты там было - воз и маленькая тележка, а потом выговоров - целая вязка...
Вачик делится со мной нерадостным открытием:
- Друзей мы, в общем, на этом не приобрели... Скорее наоборот, кое-кто стороной нас после стал обходить.
А я вслушиваюсь в интонации: есть ли в них горечь? Нет, ни в голосе, ни во взгляде горечи и раскаяния не было. В них улавливалось другое - чуть заметное любование собой, пережитым. Наверное, так и должно быть. Преодоленные в борьбе трудности, как и покоренные вершины, не только закаляют, но и приносят уверенность: "Впредь я взойду и не на такие высоты".
Он поражает меня признанием:
- Нас тогда спрашивали: зачем все это вы затеяли? Вам что, больше всех что ли нужно? Нас предупреждали, нам советовали, но мы... Не могли же мы встать на колени перед людьми, которые покушались на самое главное - на нашу совесть!
За такие слова мне хочется расцеловать Вачика. Или хотя бы пожать ему руку. Но я всегда должен остерегаться привнести в свидетельства людей что-то от своих чувств, симпатий и антипатий, предпочтений и склонностей. И я прибегаю к отвлекающему маневру - я закуриваю. Тем временем Вачик возвращается к тому, что считает самым важным. Он с тревогой спрашивает:
- Неужели вы с ней, радиограммой, не знакомы?
Достаю из папки лист, читаю: "Всем начальникам строительства управления и участков. Через три дня в трест приезжает комиссия. Будут посещать общежития. Приказываю навести порядок. Инвентарь обновить, шумливых ушлите в командировку. После посещения зеркала, графины и все прочее заберите. Исполнение проверю сам. Артаков".
- Эта?
- Ну, конечно, эта! - радуется он. - И резолюция Княжнина есть?
- Есть, - говорю я и снова читаю: "Смешно и глупо. Может, жильцов заставить еще и хороводы водить? Исполнять отказываюсь. Княжнин".
- С нее, с нее все и началось! - уверяет меня Вачик. - Начальство наше в подчиненных ценит покладистость и услужливость, а не честность и старание в работе. После этой резолюции Княжнин стал врагом Артакова и, естественно, и производству врагом его объявили.
Но Вачик ошибался. "Врагом производства и коллектива" Княжнин стал позже.