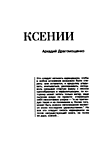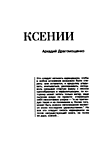КОНДРАТИЙ ТЕОТОКОПОЛУС
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
В ОЖИДАНИИ ГОСТЯ
Пришлите также и риса.
Уверяю Вас, вид его
усмешки более не вызовет.
Долго кипящая вода в котле -
мысли об облаках.
12:00
Подобно диску солнца, кругу
далее же - сфере,
фигурой раскаленных насекомых,
переплывая голову, как море,
недвижим мнимый соловей.
Он шест ночной,
ладонь затылка,
он ода лову, - вложен в свет, как в тень.
* * *
Слепок горенья. Тело в его наблюдении соткано в предложение, слова в представление, предстоящее даже ему. Листва в шум. Повествование начинается за предложением. Вправе помыслить изгородь. Мера моего воображения не что иное, как мера желания. Есть и если бы. Миф - надгробие языка. Точки псевдоотсчета. Повествование начинается за предложением, его формируя, устремляясь к "тебе", словно чтение, которое отрекается от того, что им было создано. Изгородь, не преступающая себя. Рассеянные поры стекла становятся словесной опорой тому, кто, огибая предмет (намерением помысла), находит, что мысль давно в него вписана - время невинности вещи. Повествование, свиток, рулон, виток спирали, путь лепестков. Одна часть дерева в нем, - вне другая. Воспоминание только отсрочка. Раковины запахов, отточенные до звона в ушах, мало влияют на время ожидания общественного транспорта, но пафос памяти заключается в том, чтобы осознавать изменения значений неизменных форм. Нация - не обязательно справедливость.
12:01
В последнем
самом сочном (но боги... дан ли предел вам
между заоблачным и подземным?
но до чего же весел дикорастущий стебель),
но и темнейшем,
словно мох в низине,
излучьи ветра - черна и пролетевшими к югу стаями
став прозрачна,
мерцаньем разбита, как позвоночник,
разбита, чтобы срастаться -
крона глубины нарастает.
Перьев беззвучен костер,
хранимый рассветом
в изгибе ветра последнем, в самой его сердцевине,
ревущего вниз поворота,
город где
достает себя из груди собственной,
клейменной терновым никелем, ртутью,
изрезанной венами говора,
сыпью судеб отмеченный.
Удушье дельты. Краны порта.
Коронован заливом.
Робкое высокомерие чайки впитывает сотворение меры
в мирном ободе вод. Скарабеи судов



 познают обводы свои
познают обводы свои
в податливой чешуе сопротивления
и совершенны вполне.
Моря
корни обнажаемы наводнением. Трижды
птенцу вражды божественной подобен город,
развеянный голограммой (разбита вдребезги)
по тайной вечере света,
молчанием оперен, приспустившим каленые веки. Я
* * *
Иногда это холмы, открывающие времени невосполнимую недостаточность пространства, заселяемого разным. Одиночество есть поразительное в своей ясности чувство пространственности всего, включая рассудок для которого повторения стали только повторениями, отнюдь не настаивающими на собственном изменении. Стена и картина на стене, содержащая в своих измерениях иллюзию этой же стены, остаются стеной, картиной, изображающей стену, не обнаруживая ни малейшего хотения во мне увидеть все это в той же очередности, теми же, но в ином поле напряжения времени, вплетающем их в незаполняемую возможность предстать такими же, как они есть, - пронизывающими, сокрушающими до полного бормотания, в которое, как в запыленное стекло (преграждающее, соединяющее), уже просачиваются иные сочетания контроля с меланхолией, напоминающие закаты западного побережья и, тем не менее, в своей странной целокупности уводящие в сторону, во все шире развертываемое пространство, в котором все пребывает рядом, в одном и том же месте, которое, скорее всего, отсутствует, и где событие - прозрачный вертикальный тоннель, однако в нем окончательно бессмысленны и смехотворны повторение-приращение-исчезновение-пре-вращение. Желтый катер. Иногда это прикосновение, приближающее к твоему, ничем не мотивированному ожиданию волной за волной пространство, разделяемое по привычке разным: желтый катер, земснаряд, буксир, затаенное в окне движение - странные дары недели. Крупица пепла на колене, царапина на стекле, другое, к чему применимо имя времени. При виде некоего круглого тела, обладающего объемом (тончайшая взвесь вожделения и словаря) и некоторыми искажениями по отношению к идеальности его формы, извлеченной из памяти, волен, отметив цвет тела, уменьшить расстояние между означающим его яблоком и "ним самим". Письмо прекращает себя у порога одиночества: риторическая фигура, - как "власть у порога смерти". Мне нечего делать со своими видениями, снами, которые суть нескончаемые отложения одного в другом. С какой-то минуты я направлен в странное отсутствие пространства и глубины, не отдаляющей ничто ни от чего, разрастающееся в обыкновенных буквах, судьба которых мне глубоко безразлична, как, к примеру рисунок пор на тыльной стороне ладони или особенности строения тела, утратившие целесообразность, которой так долго и упорно меня обучали другие. Вот, что пришло мне в голову, когда, не пробуждаясь, я вспомнил сон, продолжавший мне сниться, о том , как мне довелось сочинять понятную всем песню, и что на самом деле выглядело совершенно иным образом - воздушным, безглазым червем, - в ярчайшей слепоте я выскользнул из того, что лежало нелепой грудой признаков меня самого. Но, чтобы отвлечься:
Словно вчера,
белая пыль покрывает волосы.
На высохших склонах весенние маки.
Восклицание "море!" превосходит намного
то, что открывается в проеме гор.
Мальчик, зачарованный поплавком,
прищурился, синевой ослеплен, - недвижим.
Сквозь неглубокую воду у берега
мальки вьются,
слышен полуденный звон.
А в этом безлюдном тумане
блеска сырого столько же,
сколько и пустоты. Ограды.
Тогда, не отступая, спроси...
Тройной тенью мосты повисли.
Еще вчера тополиный пух,
сегодня - детьми бык сожжен.
12:02
Является ли завершением самоубийство?
Вопрос изнурителен сам по себе. Нестерпимо порой

 даже праздное вопрошание.
даже праздное вопрошание.
Не соединить ли нити в иные порядки, сестры?
Не извлечь ли нить из кома, чтобы, свивая в петли,
 избегают которых учителя и боги,
избегают которых учителя и боги,
совлекая в узлы,
вновь расправить перед восходом
ткань восхищения, лаву молекул, клеток, исходов -
но кто возможет все смыслы разом?
Ветка клонится долу, исполненная томлением тягости.
Движется птица, минуя "видится", как полая капля,
несущая половодье, не задевая верхи деревьев.





 Не задает вопросов.
Не задает вопросов.
Полно думать о птицах.
Дня поступь глуше.
Подымается ночной трудный ветер.
Живущие покидают свое жилище
и продолжают скудно цвести в ломких зарослях,
безвидных долинах, в илистой милости памяти,



 дошедшей до своего рубежа.
дошедшей до своего рубежа.
Ничто не причиняет им более боли,
ни безумие, ни смерть близких, ни голод,
ни краткосрочность того, что представлялось безмерным.
Минули разочарования и в истории. Не черпают скорбь





 в отсутствии рифм.
в отсутствии рифм.
Никогда не услышит здесь почва шелест теней
псов, бегущих по следу.
Да, все это так. Всего-то осталось
в этой смутной картинке, как будто что-то произошло
с объективом или же с предпосылками, которые, впрочем,
делить продолжаешь с собою. Тогда,
как же смог позабыть, как погружает нас детство
в мед и слюну, - небо с землею, казалось, смыкая
своей тошнотою (точно из пены, откуда являли себя

 божества),
божества),
и притяжения сонные жилы медленно разрывало,
превращая ребенка в ослепительно-нежный оскал,
ад исторгая из глаз. Он же, невнятный,
плавно цвел к облакам, словно к понятием,
лишенным основы, с ними игра в игру,
какую с рыбами утопленнику подобает играть
(ни слова не являлось сопутствовать). Позже,
потом, когда в замерзшие окна.
Потом лишь начнем из собирать, как бесценные карты,
чтобы вернуться
(как бы назад... не об этом ли разве
ночами, много спустя, любовники ведут разговоры,
на миг затая силу разрыва в телах, - о бегстве?
Об отвращении?
Настурции?
Смехе?), чтобы по ним распознать осокорь на
развилке в низине, консервную банку, клейкую ленту дороги,
костистый почерк кустов, луны,
когда их число превышает семнадцать,
и, словно лилии в реках, растут по ночам,
но также и книги без титульного листа,
со страницами проточного серебра, из образов
бьющего, залегающих в обратных скольжениях света.
Бесспорно, это синее небо. Блеск,
который, как спазма глотка, и отслоение тяжести
в паху и в затылке в обретении веса огня. Но это потом,
и неизвестно случится ли это,
неведомо откуда доносится вопрос об убийстве "себя",
кого-то, кто дальше и дольше, чем небо - возможно.
Слова возникнут потом, как будто из "недр"
вещи себя временящей, однако, что они знают о том?
Под стать существу, которое продолжаешь угадывать
в облаках или в сумерках,
в капле,
в ветке, устремившейся вниз.
12:49
Я дарю тебе этот город, потому как пора отдавать,
произносит Кондратий Теотокопулос, глотая из чаши утра
(некогда солнце обносило ею по краю
крыши, пыль пили - такова случалась ликования жажда,
головокружение проливавшая.
Ныне -
гарью утренней, листвой несмелой, запахом бумаги,
карандашного кедра, бензином, подгнившей у свай водою,
голосами, изучившими возможность протяжения к вещи). Я
ищу прибежища в притяжении.
Поправляет очки в круглой оправе,
кое-где укрепленной изоляционной лентой:
надежность и крепость.
Данные: близорукости нимфа (голова - серпентариум
изумрудно-серый) во младенчестве терпеливо его учила
распознавать кости огня наощупь в таяньи тканей,
а также скважин угли (вели ласково пальцы) - ночное небо.
И как человеку на дух не выносящему больше иносказаний,
оракулов клекота, гула священных дубов, припадочных пифий,
ему - ни одного сравнения, которое не опоздало бы.
Губы не только тлеющим следом научены.
В прикосновении - предвосхищение утраты.
Любовь святых была для него только фигурой ужаса,
доведенной до вялого отвращения.
Хруст неких акрид.
Саранча. Тля тлящая.
Боль дана, как место концентрации мысли.
Проекции чего? Строка включается в еще
ничем не заполненное выражение,
так во снах ряды шрифта полустерты всматриванием. Оно -
"непереходный" глагол, как, впрочем, и понимание
(чтение выходит за пределы страницы).
* * *
Я, возникающее из прикосновения, отпущено поровну всем, и ты понимаешь, что не в означивании дело, но в исключении. Незримые опоры, растягивающие кожуру совмещений в неукротимом переходе в иное, - вторжение. Разве в том городе, где провел он юность (холмы, глинистая река, сладчайшее тело Иисуса, запах которого смешан с запахом старческих тел), разве там не говорили на всех языках? И что за благо, начав движенье в одном, завершать в другом, не сдвигаясь ни на йоту: дерево в окне поезда, кружащее вокруг собственной оси, - вавилонские башни степей, - кружащее, пеленающее собою твое, дарованное многими "я", которое, как известно, забывается в первую очередь. Жаворонок. Провода.
15:30
Мальчик на велосипеде (задумчивы тыкв светила,
лоснятся рогами осени), струя ледяные колеса,
приколот посредством предлога к рябящему мимо забору,
волоча на проволоке клок пылающей пакли. Пламя каплет.
Хохот испепеляет средостенье между смехом и смертью. Небо
бьет лазерно в любой из углов затаившихся глаза,
иссекая снопы промежуточных состояний, - вновь ночь





 папоротника.
папоротника.
Ступенчатое вещество описаний, студенистые зеркала,
вожделеющие слияния предощущения с формой: метафора





 только дыра,
только дыра,
желания бытие, опережающее появление объекта,
в скорости отражений сплетающее клетку значения.
Вид сверху:
кристалл ограненный - инструмент исследования совпадений
входа и выхода.
Расположение между вдохом и выдохом - время.
Наконец-то птицы ничего не значат,
Долог, как долг, брод через великую реку. Счастье.
* * *
Тело при дальнейшем его рассмотрении позволяет более подробное его описание или
наоборот. Извлечение качеств. Сумма сем, затем сумма элегий. Рука ощущает тяжесть
яблока. Печаль страшится повторения или количества. Однако, нет ничего единственного.
Выражение "не было" возвращает в детство. Безличное предложение. Число лун на асфальте
замкнуто в единицу шага, не имеющего конца, сливающегося в шум птичьей листвы в корнях
ночи. Каждый изъян дарует свободу, угол. Затем накопление. позволяющее наблюдениям
длиться дольше обычного. Солнце стоит в центре моря. Иногда это холм, иногда ягода
смерти. Фальшивое яблоко не является яблоком, благодаря упреждающему определению.
Для одних вещь это роговые врата, открывающие нескончаемое сновидения, для других
порог, за которым реальность являет себя. Сражения за мясо, сращение со сражениями.
Битвы мяса с людьми. Указание, иссекающее из суммы свойств отрицание любого. Яблоко.
Содержит ли оно в себе... Фальшивый объект может быть фальшивым объектом, но фальшивое
яблоко быть яблоком не в состоянии. Время не существует во времени. Море не успокаивает
во сне, какую бы форму не принимало. В сорок лет изменяется изнанка снов, меняется узор
разрывов, пробелов, что позволяет догадываться о переменах в обратном. Печаль становится
меланхолией, независимо от того Крестовский ли это остров, либо вечер между Монтерреем
и Беркли. Меланхолия - очевидно неудачное определение. Следовало бы говорить об
отрешенности, о прибавлении ночи, с тем чтобы оставить предположение как бы затаенного
экстатического перехода, определенной возможности "взрыва", расточения, слепок которого
будет рдеть на поверхности бесплотной и мучительно явственной мембраны тела чем-то
напоминающим закон грамматики - еще нет ничего, однако есть как правило - этого, еще
не ставшего. Но идеи возникают (я настаиваю именно на этом слове, хотя оно крайне
сомнительно в своем значении, точнее в контексте значений, устанавливающих его
привычность), возникают... нет, я действительно остановил свой выбор на нем, словно
оставляя (как, впрочем, всегда, во всем, и не надо говорить мне о теле, о
непосредственности, о языке цветов, о балийском театре, упраздняющем слова, мне
нечего упразднять, как и праздновать... о, эти мелкобуржуазные трагедии, вечные
пряжки сандалий - прозрения) этим всего-навсего место для возможного, еще не явленного
мыслью, смысла, я продолжаю, - ведь это ночь любви, и времени нам хватит на все, -
идеи возникают по мере продвижения, или, скорее, приведения в движение неких косных
масс, архива опыта в процессе освобождения (и не надо мне говорить, что таковой нет:
я говорю, следовательно, я свободен* от притязаний объяснить мне, по меньшей мере,
меня, подобно любому словесному действию, от притязаний присвоить "меня", созидая меня,
как некую реальность из множества неких фрагментов, совершенно неактуальных, в процессе
возвращения к всегда другому себе, то есть в высвобождении от освобождения и некой свободы
игры различий в пункте "сейчас", - ведь это (насколько я помню) ночь любви и нам рано или
поздно придется заговорить о времени, как о том, что вне нашего "сейчас", как о некой
кукле с карминными губами, в которую так легко и безвинно входит скальпель, не являющийся
причиной себя, - таково приближение к попытке сказать тебе что-то об идеях в процессе их
стирания, освобождения, таково это место, готовое стать возможным значением. Говори.
Строка включается в ничем покуда не заполняемое выражение. От Фрейда до Батая -
постоянные ссылки на жизнь простейших... "пусть даже это, но чтобы оно было". Иначе
с чем сравнивать? Иначе, в чем же надежда? Там, где я вырос, парикмахеры на рынке при
встрече ранним утром вместо приветствий обменивались загадочным: "ну как?", и не менее
странным в ответ: "мы стрижемся и бреемся, а оно все растет". У вокзала шесть братьев
жило. Жили они в землянке. У них была мать. Отцом им было все вокруг. Трое ходили с
бритвами Ed. Wushop Solingen, каким-то непостижимым образом приваренными к латунным
кольцам, чтоб надевать на пальцы. Убивали "приправой", то есть, ножом. Бритвами же
"писали". Мы входим в весенние смутные вечера, в костры. Лепестки пепла осыпали волосы,
цвел огонь, таяли на губах. Печеная в углях картошка, конечно же, "обжигала" рот. Желтый
катер переместился к мосту Свободы. "Кровь завязана в узел рождения и теперь не хлещет
ежемесячно по ногам."
* Во всяком случае,
говорение устанавливает это право как бы отыскивая, вытаскивая желание им быть, или
же обещанием, но уже исполненным в говорении, и, если исключить очевидно выпадающий,
чужеродный фрагмент "во", "в", вектор внедрения, вовлечения. то именно в го(во)рении,
в истощении, истечении из свободы (однако, как бы нарушая интенциональную структуру -
без "в", "во", в-не-в, когда "из" собственно есть "во" - то, что изводится из "между",
из межи, борозды, места в(о)вержения и одновременно из-вержения, из-свершения) - здесь
она возникает до.
6:30 (утро, пасмурно)
Начало тяжко, какую б хвалу ни возносить воплощению
(ты всегда повторение - не в этом ли благо? -
даже в губах материнских, где слепящим туманом
любви к другому - семь путешествий отца синдбада -
точнее жалостью к комку слизи,
беспомощному осадку). Хотел бы ты повторить свою жизнь?
Откуда осы?
Весы.
Высказанное - остаток.
* * *
То, что, думалось, уже восхищено снегом, стеснившим месяцы. Автобус не уходит. Метастазы очереди, основания концентрации и истребления, - такова еще одна проблема перевода, кому понятно? между созвучьями рост инея, но также и клювы пречистые букв, в замещении достигших невесомости и чистоты пепла. Черное масло отсеребрившихся дождей (естественна ли весть звука вне значений, оставленных некогда в обиходе предложения? летающая паутина звезды, туманностей, скопления птиц). Подобное описание не способно описать даже сна. Усыплены пробуждением снега, где сквозняки вполголоса изучают осязание - мы говорим в троллейбусе, - это - признание, говорю я вполголоса, поскольку требуется нечто в ответ, когда. Иная речь. Да, иная, множество их существует для описания, множество предлагается нам условием последующей достоверности. "Четверть века минуло с той поры, как я окончил школу. Последний раз встреча с выпускниками, то есть, с одноклассниками случилась лет десять тому. Я все забыл. Вчера какие-то женщины с животами, огромные... море водки, но я никого не помню... кто-то достает фотографию, говорит - "хочешь взять себе?"... я ничего не понимаю, ее вытащили со связанными ногами, нет, почему же, я помню как ее звали. Тончайший слой эмульсии. Сотри пальцем. Через несколько дней пропадает надобность знать, чья собственность имя собственное, которое некоторым образом "принадлежало" и мне. И я сказал, но не вслух, и не в себя, но как-то мимо слуха и себя, и всего - она осталась вот там, не изменяя себя, не изменяя себе, не меняя теперь ничего, не меняя времен, в постоянном при-знании-косновении, в возрастающей косвенности глаз. Непроникновение, углубляющее длительность. Со связанными ногами. Либо я неправ в том, что я тот, кто стал этим здесь - в том, что я есть."
Самодостаточность световидного шара. Так капли. Так неуклонное приращение капель или бритвенных лезвий. Бесспорно, каждый город вынужден с чего-то начинаться. Я не могу иначе. Всматриваться до растворения очертаний. Очертания смерти не выявлены. Поражение. Всматриваться, говорю я тебе, всматриваться - признание. Я не могу иначе, как только на свалках, на пустырях приступать к началу суждения. Подчас археология, изучая украшенные тонкими ожогами полые кости птиц, прекращает исследования, со связанными ногами, эмульсия, солей сцепление. Анафора. Херсонес. Празднества Осхофорий... Спорыньи колосья венчают. Солнце стоит в центре каждой метафоры, ночи. Есть иное мнение о точке, за которой деление памяти невозможно. Близкое в близком. Близкое в далеком изоморфно великому в малом. Рассеянные споры стекла становятся словесной опорой тому, кто, огибая предмет, находит, что давно в него вписан.
12:00 того же дня
Впрочем, как осени. Но,
намереваясь о неизбывной тревоге
раздумывающего о том, как бы снова история
не спустила с языка еще одну шкуру,
влага
горла его наполняет впадину смехотворного сочетания:
"я одинок", как одиночество (услужлива память)
любого ответа под декабрьским, назад отступающим небом
в поисках вопрошания.
Флажки снов сползают по карте. Флюгерное движение
к пункту схождения, к полюсу,
связывающему виденье и виденье.
Будущее занято расщеплением настоящего.
Параллельные. Сходства.
Между еще не упавшим яблоком и повисшим облаком
простирается небо изменения гласной -
под оболочкой глаза лучи очертаний собраны
в зияние точки.
Поэзия открывает письму бесконечное чтение,
и время, будто сокровенный магнит,
искривляет прямую речи,
от нескончаемых отражений освобождая объект,
а первое лицо от прямой речи.
Время - незавершенный рисунок семени.
Где-то тут собака зарыта.
Такого-то года в начале марта.
Очки на переносице поправляет Кондратий Теотокопулос.
У магазина выгружают из фургона капусту.
Пот собирается в его висках.
В крупнозернистых мхах
колодцы. Каждый - веретено ягодной крови.
Бересты горизонтальные струпья, отделяясь погодно,
обнаруживают значимость иного предмета.
Нагое мужское тело, развернутое в плечах,
увенчанное головой ибиса (в других регионах - быка)...
охапка пшеницы... или же тростника...
весы (виселица - инструмент
неукоснительного соблюдения равновесия)...
разливы...
какая-то перекладина еще, заключенная в круг
(труп),
предлагают себя на выбор.
Но он спокоен. Ибо исправно платит
по телефонным счетам.
Впрочем, их становится меньше, Нет,
* * *
Это жизнь простирается к своему пределу, к костной преграде лба и пульсирует холодным облаком, а безразличие, спустя рукава, изучает пень, расколотый на колоде. Если медленно падать навзничь (либо лицом) по прямой и строго придерживаться направления к югу, вначале услышишь, нарастающий во времени (как в стяжении земных сил изумруд) гром, восстающий из руд небесных осью пустой соленым водам и склонам. Выжжены золотом. Сообщение, создающее самое себя, раскрыто, словно странствие в странствии, подобно рассудку кристалла, подступающему к границе влаги, но всегда остающейся за порогом памяти. Ангелы находятся вне красоты, словно смех за горизонтом намерения, - до асимметрии. Но и мы... немы? разве мы пребываем вне безобразия всю свою жизнь? Мои руки бесшумно тебя создают из глины касаний, беглых, как дым, невесомых, как предвосхищение созвучия. Разум одновременно в моем животе, в коже бедра, в спорынье, нитях, льющихся из узла на веретено позвоночника, ночи. К рассвету твое плечо остывает. С трудом предстоит понять заново: что это? - линия, идущая книзу? цветовое пятно, понятие, остановленное в проеме глаза?
12/24:00
Но лучше пусть океан,
пропуская со свистом сквозь арку рта гравий воздуха,
говорит Кондратий Теотокопулос.
Море? Швыряя на транспортер ящик с капустой, спрашивает
грузчик. Набери-ка попробуй денег! Одна дорога...
А потом, как его, фрукты, детям!
Однако Теотокопулос, дергая кадыком, повторяет слово
и видит. Что же он видит?
Скарабеи судов катят шар океана.
Краб безумной буквой жизни
втискивается в расселину.
Грохот вертикально вскинутой пены.
Скала крошится медленно под пятою солнца,
подобно воображению,
бьющемуся над фотографией смерти.
Перламутр дымной мидии, вскрывающий солоно кожу -






 вскрик словно,
вскрик словно,
разделяющий объятий края на новую и новую встречу.
Когда-то пыль пили.
По узлам городов, пропущенным сквозь наученные
с детства пальцы, следили строение пены
у колыбели, на шее - вены.
Он ощущает сухость кожи, черты меняющей его лица,
насаженного на
взгляда два острия (вращают ласточки жернова),
спицы две,
вяжущие мешком пространство. И, словно с качелей,
опять: женские руки, мать? брюхо лилового карпа,
бескровный надрез,
падают вишни (мир, как сравнение - неуловима
вторая часть), пыль обнимает стопы
прохладой,
мята,
звезда всех вселенных тепла.
Да, это мать поправляет прядь
и ни одного движения,
чтобы в тело просочиться могло.
Я говорю - степь. Не море.
Я говорю - холм, не степь.
Я говорю - два элеватора в мареве, ястреб.
Я спрашиваю, почему выключен звук!
Что я сказал? Повтори.
Ты сказал - краб. Жаркий день.
Город. О горле что-то.
И все, ты сказал, начинается с единственной буквы.
О любви потом. Жди немо.
С этого начинается мужество непонимания,
как с некой безгласной, расположенной за решетом алфавита.
в самой его середине, устремленного вниз поворота
(птенцу лабиринта подобен город: либо жив, либо - не). Кондратий
Теотокопулос вспоминает,
как ночью весной
с сыном встретили они на пустыре человека,
слушавшего соловьиное пение.
ОДА ЛОВУ МНИМОГО СОЛОВЬЯ
Как солнцем узким угрожаем соловьем,
рассыплет сеть шагов по рытвинам впустую -
кто спутал новолунье с вестью, слух смешал с огнем,
что глину и навоз созвучием морочит,
и, мучимый (не прихотью) пытается войти
в ту точку, где не станет больше
искомого предмета. Разве не любовь?
Проснись, ловец, в силок просторный, словно случай.
Он тленья избегает одного,
другого, третьего в разливе отклонений,
и не наивен столь, чтобы в разрыве вспять
счесть солученьем совпадений
звук асимптотой яви, свитый в измышленьи.
Мир пал созвездьем дыр: ломоть янтарный сыра.
И будто пот проступит сквозь стекло
ревнивого предметного троенья - так
расправляется и ширится число,
стирая единицу разореньем,
и слитком преткновений (будто дно)
иль тесной паузой улитки
ночь изопьет себя с избытком, как черта -
за локоть сна заведена - из одного
в другое уходя, как две иглы летят навстречу.
И тяга их к сближенью такова,
что ум готова сжечь иного,
чтобы исчезла избранная вещь,
слоением прерывность искупая в тщеньи
самой черты - но как проста! -
чем смерть свою припомнить проще,
или падение луча - мимо меня - к ее предплечью,
туда, где затмевая медь, орех в проемах воздуха
трепещет;
а к ней губами грех не отцвести,
пересекая острова удушья,
чья карта на изгибе тише плена
сознаньем расстилаемого тела...
но ни начать, ни кончить совлеченье соловья
в то, что, не ведая, предвосхитить захочешь.
* * *
Не все открылись криптограммы почек.
Была весна. Кипрей еще не цвел.
Ночь, запинаясь, речь учетверяла.
Борение земное проникая, дома дубов росли к гробам.
И с юга дуло сушью.
К лужам крались кошки,
завороженные кристаллом пустоты
в оправе Млечного Пути осыпавшихся некогда





 вселенных,
вселенных,
и чернью горней разъяренные цветы
хребты их понуждали оплывать истомой
(как множества в мгновенье перехода),
и горлом изменять строение зрачка,
дабы увидел он извне, издалека
то колебание, что мы зовем пространством -
сад призрачно танцующих камней,
чья полнота восходит к вычитанью,
ограда чья лишь ожиданье "стража"
(мне даже память речь набормотала -
узлов развязанных рой, будущих времен,
распределенных в равенствах порядка).
Я, сын... - мы видели, как тень остановилась,
прислушалась, медлительно очнулась
и двинулась к дороге напролом через кустарник,
пожиравший пустошь, под треском искристым
провисших проводов:
свитых в жгуты,
оглохших в исступленьи
материи незрячей
мокрых
черных
пчел.
12:01
Мои руки, зажигает папиросу Севастьян, грузчик -
по ночам ищут убежища в тяжести, тянутся к брату картофелю,
к брату меньшому-луку, к сестре-капусте,
а когда уж совсем... к младшей сестрице. И я просыпаюсь,
и поступаю правильно.
Моя голова, в ответ думает Кондратий Теотокопулос,
лежачий камень, который к истоку пески возносят,
несомые к устью. Камень
на меже между сновиденьем и бдением. Как велико порой
поле - каждое эхо даже в засуху губ прямится жадно,
готово впиться. Дождь ему серп. не меня жди и немо,





 смежая веки.
смежая веки.
Однако, либо обширно чрезмерно это движение, либо
тело твое оно превосходит лавиной, силой перемещаемого. Так
с рожденья ты всего-навсего западня некой души,
слова, смутной вещи, лица, отсветов, как сокровения,
и словно втянут туда, где разворачивается начало.
... безвидность.
В центре тяжести дело, гнет свое грузчик, и в спине,



 безусловно... если запил напарник...
безусловно... если запил напарник...
Крайне редко дети прибегают на праздники к гриму смерти.
Дни урожая, тыквы, свечи. Скоро голуби обрушат кровлю




 после небесной сечи.
после небесной сечи.
Вечером (фраза - неиссякаемые копи цвета),


 раздумывая об ультразвуке праздно,
раздумывая об ультразвуке праздно,
достигшем предельных частот, он, покуда будут резаться
чеснок, помидоры, укроп, поставит на подоконник
чернеть пурпуром Саперави - перешедший сновидения сок.
Закат откроет пролом в проливе.
Осоки свист. Коса наша камень, легла к камню тихо. Итог.
К нам сквозь стены неудержимо перья стай,
прогорающих к югу, несет. И ты не спала. Либо я. Линза дождя.
Жгут, расплетенный в объемы. Колесом
вырвется нож из руки и, как осень, лет его длинные, горький
вдоль губ, а по краю полынный (вновь ночь папоротника: 12/24),
вмерзая в аналогии лед, неслышно
мимо пальца ноги в пол вплывет, плесени шлейф разостлав -
скорости дребезжанья бумаги на гребешке,
когда говорить то, что видеть.
Скорость усвоения стены, картины, кухонной утвари, металла,
возвращающего сталагмитами Мессиана, посланий капли,
горенья газа - напыленных по граням фразы
в соответствии с привычным приказом. Не укоряй меня. Я
измеряю тень тени всего-навсего тенью, что означает: здесь.
Днесь ум мой крепок, как ветер на последнем витке о земли.
В дельте сирены. На пустыре соловьи. Ряды Фибоначчи,
будто Кадмово войско в область залива нисходят. Каждая
фотография - только лишь вход. Материнская кровь
сгущается зеркалом. Здесь реализм: части речи
 чужды состраданья друг к другу, сворачиваясь в рог улитки.
чужды состраданья друг к другу, сворачиваясь в рог улитки.
Пешеход - знак прохождения, сросшийся



 с опустошенным движением,
с опустошенным движением,
симбиоз отверстия с его очертанием. Руки его
до сих пор не могут понять, как
ее чудесное тело переходит в сочетания согласных и гласных,
ветвясь рядом программ. Когда рядом -
словно подсолнух, чистым законам открывается разум.
Каждый - всегда побег от другого. Скрипящая дверь.
Изумления место повсюду. Дом при изменении единого знака
становится дымом. В смене значений - свеченье, свежующее






 сетчатку,
сетчатку,
пчелиная плоть мгновения/молчания/слова
и тела, тлеющего под веками, покуда обмен веществ.
Но забвение: сверло речи погружается в воск,
отделяющий поверхность от амальгамы.
В музее яблоки с голову макроцефала -
плоды воскового Эдема.
В застекленном шкафу -
за двести лет изрядно выросший заяц. Гермий - тростник,
который снится Паскалю, полый, как глубина и прозрачный,
как если бы стаи прожгли его к югу, точно дудку дыхание.
Человек, который к себе на "ты",
никогда не избавится от мечты
о побеге (даже в однообразие втекая ручьями,
даже по вверх скатываясь по лестнице снега, - остается
неисчислимое приближение, словно словарь,
который один и тот же).
Вот выпрямлен смолистым побегом. Следом оживает тростник
в пульсации "верх-низ". Лево входит в право, как мысль,
наследующая привилегию настоящего. По-настоящему
в этом суждении стоящего нет ничего. Вот он, стоящий,
выпрямленный, точно побег к недвоящейся точности -
траектория к территории "есть",
очерченной грифелем настоящего. Стоящий - стирающий
состояние себя. Влага
просачивается в песчаник. Вот
уже лужей небесной разбит в произнесении "сна ветер",
ниткой мокрой скользит, пришивая старуху,
летящую пустым рукавом к сердцу виноградному Бога. Другое.
Ребенка слезы,
плачущего ни о чем, запрокинув хрупкую голову
(то ли сады ночные умножаются в нем,
глотком ледяным даруя восторга,
то ли зга ему блещет со смолистых поводьев
в ацетилене плодоношения насекомых, - все покуда равно
в этой жизни, - либо, попирая законы возраста,
вращения сезонов
из белой империи мозга вниз поползли пальцы белые боли
при виде мусора легкокрылого, клочьев бумаги, листьев,
уходящих спиралью, в себе уносящих тайну написания дерева)
Я стою на перекрестке достаточно долго. Светло как днем. День и есть, - запишет
позже в тетради Кондратий Теотокопулос. Помидоры 2 кг. На рынке. Кукуруза 25 коп. за
килограмм. Два венка чеснока (слаб, куплен напрасно) t - +18 Cо. Севастьяну следует
сменить работу - артрит. Писем не было. Правительство продолжает реформы. Закончили
съем двух фронтов. Послезавтра начать ремонт водогрейных котлов. Снилось: вечер, мать,
на столе карп, мне, кажется, пять... не больше, до четырех одна папироса, монтень,
гости...


 но это после.
но это после.
Теперь: 12:00.
Впереди сыр, Саперави, беседа.
Впереди - горизонт, откуда движется гость,
с лица которого черт причины все смыты.
И только
первых скороговорок тени в преддверии ночи
позволяют его отличить о зеркала,
где сотворение чайки
любезно миру.
Окончание книги "Ксении"