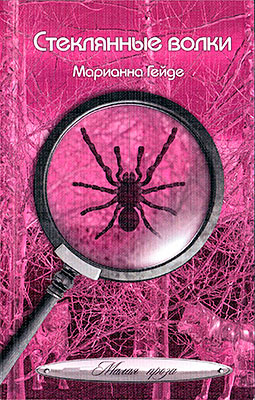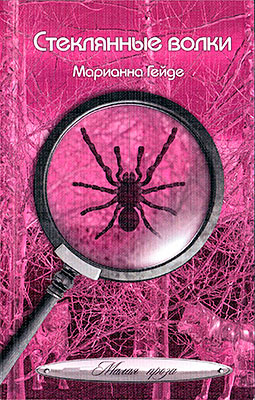|
Плотников и благо
Дважды у Плотникова спрашивали о том, что он называет благом, каково оно. В первый раз Плотников рассказал свой сон, в котором ему явилось благо. Оно было белое, холодноватое, продолговатой формы и слегка светилось, как гнилушка в темноте. От него исходил едва заметный запах озона. Благо слегка пульсировало, и рядом с ним человек ощущал удивительное спокойствие. Оно лежало в небольшой ямке, оплетённой корнями растений. Люди подходили к ямке и вытягивали руки над благом, оно слегка дёргалось, почувствовав тепло. Там, во сне, он провёл возле блага некоторое время, в течение которого у него не было никаких мыслей, предчувствий и пожеланий. Во второй раз, когда Плотникова спросили о том, что такое благо, он пожал плечами и сказал: "Что вы глупости-то спрашиваете? Вот ведь людям нечем заняться", – и пошёл прочь, слегка раздражённый.
Берендеев и имярек
"Человек чистый, – разглагольствовал Берендеев, посасывая кусочек маринованного лука, – с неизбежностью становится чёрствым и злобным не позже чем к тридцати годам. Для того чтобы сохранить мало-мальски человеческий облик, человек должен быть с самого начала несколько с гнильцой. Это нужно прививать с детских лет. Вы вот детей любите?". Он ответил: "Нет, я не люблю детей". "И напрасно. Видите, вы уже чёрствый и злобный. А скоро станете ещё черствей и злей. А всё из-за того, что в вас нет червоточинки". "Какой ещё червоточинки?". "Такой червоточинки, сквозь которую злое и доброе проникает в человека. Знаете ли вы, что и злое, и доброе проникает в человека через одни и те же отверстия?". "Берендеев, вы пьяны". "Да, – важно ответил Берендеев, – я пьян. И скоро стану ещё пьянее. А вы ихневмон. Самый настоящий". "Не отвлекайтесь, Берендеев. Кажется, вы только что сказали что-то странное. Вы говорите, зло и добро проникают в человека одним и тем же образом? Отвечайте, пока совсем не опьянели, как по-вашему, какое между ними есть различие". "Есть различие, – уверенно отвечал Берендеев, – не могу сказать в точности. Червоточинка. Она создаёт различие". "Хотел бы я верить в то, что вы просто плод моего воображения, Берендеев. Это было бы тяжело, я знал бы, что болен, я страдал бы от этой мысли. Но то, что вы существуете на самом деле, это ещё хуже". "Хо-хо, – возгласил Берендеев, – не надеетесь ли вы, что по вашему слову я растворюсь в воздухе, как утреннее облачко? Не надейтесь". "Очень я вас не люблю, Берендеев. Даже больше, чем вы этого заслуживаете. Я бы не любил вас меньше, если бы вы и вправду совершили какие-нибудь чудовищные деяния. А так вы только нагоняете тоску. Тоска хуже, чем страх, в тоске нет и намёка на надежду". "Вы ихневмон", – повторил Берендеев, выпивая. И начал болботать, как заведённый: "Ихневмон, ихневмон", – потихоньку растворяясь в воздухе.
Лисицын и врач
Врач посмотрел на Лисицына сквозь почти невидимые очки без оправы так, что у того мелькнула шальная мысль, что, быть может, это и не врач никакой, а шарлатан. "И что с того, – возразил он сам себе, – возможно, шарлатаны – тоже разновидность врачей. Исцеляет же людей прикосновение к мощам всяких святых". "Вы были повреждены", – сказал врач. "Я знаю", – сказал Лисицын. "Вы были сильно повреждены", – сказал врач. "Иначе я бы сюда не пришёл. Но меня интересует не это. Меня интересует, каким образом можно устранить это повреждение". "Это повреждение нельзя устранить. Если бы мы могли его устранить, то и вас пришлось бы устранить вместе с ним. Вряд ли это именно то, чего вы хотите". Лисицын дёрнулся. Это не было именно тем, чего он хотел. "Что же мне делать? – спросил он врача. – Я повреждён, вы говорите, сильно повреждён. Ваша задача помочь мне". Врач вздохнул и закатал рукава до локтя. Лисицын увидел, что руки его были исполосованы горизонтальными шрамами, некоторые были совсем свежие и заклеены неряшливым сероватым пластырем. "Будете?" – спросил врач. Лисицын отшатнулся: "Буду что?" "Кровь, – ответил врач. – Единственное средство для тех, кто был серьёзно повреждён". "Н-нет", – сказал Лисицын. Его слегка подташнивало. "Пейте, – вздохнул врач, – вы же, кажется, просили о помощи? Это помощь". "Не буду, – сказал Лисицын. – Должны быть какие-нибудь другие, менее дикие средства". "Да вы не беспокойтесь. Небольшая кровопотеря вовсе не вредит моему организму. Напротив, кроветворный процесс ускоряется, состав крови быстро обновляется. Конечно, при большом наплыве пациентов, или, лучше сказать, реципиентов это несколько утомляет, но как раз сейчас не сезон. Я даже страдаю от чрезмерного полнокровия в такие времена". Лисицын пристально разглядывал руки врача. Сухие, густо покрытые седеющими волосками и извилистыми синими венами. "Верно, такими удобно играть на музыкальных инструментах. Но он не играет, готов поспорить. Почему он не играет на музыкальных инструментах? Нет слуха? Или, может быть, он вообще не любит музыку? Зачем такие руки достаются человеку, который не любит музыку?", – думал Лисицын. А врач меж тем приглашающим жестом приподнял край пластыря.
Серафим
Во сне он увидел серафима. Тот был размером с бумажного змея и целиком сработан из каких-то более плотных слоёв атмосферы. Каждое из шести его крыл было будто пришпилено к воздуху, он дёргался, пытаясь высвободиться, отчего его надменное синеватое личико искажалось не так, как человеческие черты от боли или страдания, а как сминается ткань. Некоторое время он разглядывал серафима, а затем ему в голову пришла странная мысль: он подошёл к нему и аккуратно отделил каждое крыло от воздуха, так что весь серафим оказался у него в руках, как кусок скользкой ткани, кусок этот сердито взглянул на него. Он решил его перевернуть, но оказалось, что серафим сквозной, и с другой стороны у него то же самое лицо, такое же сердитое. Тогда он сделал вот что: как полотенце, приложил серафима к своему лицу, так, чтобы глаза и рот примерно совпали. Тут он почувствовал ледяной ожог, точно лицо его опустили в жидкий азот, кусок воздуха, который был серафимом, корчился, и скрючивался, и сминал себя в комья, и кожа его лица, к которой серафим примёрз намертво, тоже сжималась и едва не отходила от кости, а крылья сомкнулись на затылке наподобие застёжек железной маски. В ледяном поту проснулся он, дверь балкона была нараспашку, холодный ветер, вызвавший этот кошмар, с невинным видом игрался на полу со сбившимся комком пыли, как котёнок. Он подумал: "Нужно подмести".
Рождественская история
Мальчик хотел узнать, существует ли Святой Николай на самом деле или это родители дарят ему подарки на Рождество. Вечером накануне Рождества он взял свой носок и спрятал в такое место, где никто бы не догадался его искать. Наутро он побежал проверять. Счастью его не было предела: оказалось, что Святой Николай всё-таки существует. Ночью он приходил и утащил носок.
О вреде СМИ
Девочка раскачивалась на качелях и с удовольствием врала:
– А ещё во сне я видела бога. Он был огромный, круглый и весь состоял из зубастых ртов. А из каждого рта торчал огромный толстый красный язык. А с каждого красного языка текла жгучая слюна. А в том месте, где она капала, из земли вырастал... конь. Да, огромный чёрный конь. Кто на него заберётся, попадёт прямо в ад.
– Ты очень умная девочка, – сказал расчленитель Тимошенко, чтобы как-нибудь завязать беседу.
– А я вас знаю, – ответила девочка, – вы расчленитель Тимошенко, про вас в газетах писали.
Ччёрт, шагу нельзя ступить, чтобы это немедленно не попало в газету, с неудовольствием подумал расчленитель Тимошенко. Никакого представления о неприкосновенности частной жизни.
– Там всё наврали, в газете. Я продавец пылесосов.
– Ну, это скучно, – поморщилась девочка, – как у всех. Давайте, уходите отсюда.
– А ты кем хочешь стать, когда вырастешь, девочка? – попытался увильнуть расчленитель Тимошенко. Девочка мечтательно закатила глаза:
– Я хочу, чтобы у меня было много-много врагов. И чтобы они все меня ненавидели.
И есть за что, подумал расчленитель Тимошенко. Газеты, газеты, эти чёртовы газеты. Мало тех, что уже существуют, так ещё вдобавок каждый день появляются новые. Как будто каждый человек рождается нарочно с такой целью – вырасти и открыть свою газету, да ещё и не одну.
Cheap thrill
Триллеры Саймона Т. Шнайдера привлекали зрителя изобретательностью сцен насилия и замечательной реалистичностью спецэффектов, удивительной для сравнительно небольшого бюджета. Впоследствии оказалось, что цифры искусственно завышались, чтобы не вызвать подозрения. Как объяснял сам режиссёр, на этот шаг его подвигло стремление к независимости от продюсеров. Из интервью:
Шнайдер: Они постоянно вмешиваются в процесс, меняют сценарий по своему вкусу, выбрасывают сцены, которые кажутся им слишком отвратительными или несправедливыми. В результате готовый продукт не идёт ни в какое сравнение с тем, что было задумано.
Интервьюер: Что означает буква Т в вашем имени?
Ш.: Не скажу.
И.: Что вас больше всего раздражало во время съёмок?
Ш.: Невозможность делать дубли. Нужно всё безошибочно рассчитать, в противном случае фильм будет испорчен. Так получилось с четвёртым фильмом серии: его пришлось переснимать почти полностью.
И.: Вы стремились к тому, чтобы зритель поверил в реальность происходящего на экране?
Ш.: Странный вопрос. Нет, разумеется. Вся идея была в том, что такая мысль ему и в голову не придёт.
И.: Как вы думаете, почему людям нравится смотреть триллеры?
Ш.: Не знаю. Я об этом не задумывался. У меня с самого детства была мечта – снимать триллеры. Это как спросить "почему человек дышит" или "почему человек любит".
И.: Да, это прекрасно, когда у человека есть мечта и он находит в себе силы её осуществить. <...>
Любовь к чтению
Человек покупает кулинарные книги, они уже заполнили книжный шкаф и приступили к освоению антресолей. К пище человек, в общем-то, равнодушен, ест скорее для того, чтобы заглушить голод, чем ради удовольствия, и никогда не приготовил ничего сложней яичницы с гренками. Зато сам процесс чтения рецептов затягивает его настолько, что, раскрыв книгу, он не может от неё оторваться, пока не прочитает от корки до корки. Внутренний слух его ласкают причудливые, фантастические названия: "лакированная утка", "сухие варенья". В сущности, в этом нет ничего необычного: в конце концов, далеко не всякий любитель детективов пытается совершить преступление или хотя бы раскрыть его. В тайне ото всех человек пробует сам сочинять кулинарные рецепты и даже лелеет страшную мечту о написании собственной кулинарной книги, но при мысли о том, чтобы продемонстрировать кому-нибудь эти опусы, его охватывает дрожь. Хотя, в общем и целом, он вполне уверен, что плоды его фантазии представляют собой именно рецепты, а не пустой набор слов: уж кто-кто, а он знает о них больше, чем любой другой смертный.
Тарасов и полоз
Тарасов сидел неподвижно, свесив руки плетьми и прикрыв глаза, и чувствовал, как внутри его тела бился гигантский полоз. Он то свёртывался, то раскручивался, то сёк хвостом тарасовские внутренности, то как будто бы цепенел, чтобы через секунду возобновить свои конвульсии. Чтобы как-нибудь отвлечься, Тарасов ухватился за первую попавшуюся мысль и думал её: "Как будет правильней сказать – что внутри меня бьётся гигантский полоз, или же что это я бьюсь внутри Тарасова? Или, может быть, то и другое неверно? Кому тогда принадлежит эта мысль – Тарасову ли, полозу, или кому-то третьему, или, вернее сказать, мысль существует сама по себе и принадлежит тому, кто в настоящий момент её помыслил? Или же тот, кто существует, существует лишь в тот момент, когда мыслит её, а после тотчас прекращает, и остаются от него, например, только лишь Полоз и тарасов, а я в этот момент перестаю существовать вовсе?" Эти досадные рассуждения на какое-то время отвлекали Тарасова и полоза от их извечной агонии.
Страх
Говорит: "Страх меня преследует, страх, которым пропитан здешний воздух, как порох, въелся в кожные поры, его уже не вытравишь. Говорят, где-то живут люди с белой-белой кожей, которые и не пробовали страха, не то, что мы, не то, что ты или я, например. Их и здесь иногда можно встретить, при виде их шарахаешься, точно увидел призрак. Того, чего у тебя или у меня, например, никогда не было и не будет. Хочется сделаться с былинку, застрять у них в глазу, пробраться в самый их мозг и там спрятаться. Точно мы здесь у самого бога застряли в глазу, и он трёт и трёт его, желая освободиться, и влага сочится из его слёзных отверстий, наплывает, грозит вымыть тебя, как соринку. Там, в жутких чёрных озёрах зрачков его, где сохранился отпечаток первоначального замысла, о нас и не слыхивали. С вкрадчивостью опечатки. Таким вот образом мы и проистекли сюда. Мы выкидыши, выродки. Стало быть, страх нам пристал, страх нам подобает, мы, стало быть, должны его носить с достоинством, если только можно сыскать у него какое-нибудь достоинство. Он требует бегства. Куда? То-то же и оно, что бежать отсюда некуда, в этом всё наше достоинство. Когда всякая тварь бежит куда-нибудь, мы просто бежим. Не куда-нибудь, просто бежим".
Другая болезнь
"Ты за ним хорошо приглядывай", – говорит Матушка, и Эр недовольно обещает, что будет приглядывать как следует. За Матушкой самой бы кто-нибудь приглядел, потому что сзади от неё оторван здоровенный кусок и волочится на тоненьком ремешке, она этого не видит. Но что до самого Эр, то он вполне прилично сохранился, потому что ходит всегда одними и теми же тропами, никуда не сворачивая без особой необходимости, и следит, чтобы рядом не было ничего острого. Но за Малышом нужно приглядывать, хотя ему уже стукнуло то ли тридцать, то ли тридцать два, на годы почти никто не считает, а ума у него так и не прибавилось, Матушка говорит, это оттого, что он начал гнить с головы, но он здесь самый младший, поэтому его все жалеют. То и дело норовит съесть горячее, поэтому губищи у него давно растрескались, слюни вечно текут по подбородку, выглядит отвратительно. Впрочем, здесь все к нему привыкли, а из мира снаружи всё равно уже несколько лет никто не заглядывает, Дядюшка говорит, что там давно никого не осталось, что их всех выкосила какая-то другая, более хитрая болезнь.
Гладкая речь
Гладкая, плавная речь, несомненно, была для них роскошью. Как гладкая, красивая кожа, в мыслях при этом, впрочем, возникала не какая-нибудь трепещущая наяда, а, скорее, новенькая комиссарская тужурка. Эти последние, впрочем, гладкой речью похвастаться не могли, у них были другие, более надёжные способы воздействия на окружающий мир. Мир же, как сказано, был в разрывах, да он так и был замыслен изначально. Вспомним хотя бы о пресловутом слепом пятне, случайно попав в которое, предмет попросту исчезает. Да, так вот, об этом-то изначальном зиянии их речь, прыщеватая, комкастая, то и дело прерываемая какими-то неуместными, нелогичными паузами, никогда не договаривавшая, точно позволяя предметам, о которых не договаривают, самим явиться и свидетельствовать за себя, призывавшая их, точно мифических варяжских князей, двое из которых и сами являлись, по сути, частями речи, – об этом, стало быть, их речь и стремилась сообщить. Она торопилась и не поспевала, спотыкаясь, она спешила успеть к сроку – но никто никому никогда не сообщал сроки. Собственно говоря, такой и должности-то не было. Каждый слушал свой собственный пульс. Каждый ошибался.
Три попытки
"Некоторое бытовое искусство ретуши, тщательно расставляемых пауз и умолчаний, позволявшее им вести существование, приближенное к жизни пауков, отслеживать вибрации пустоты, которая казалась уже не отсутствием, а как будто бы особым веществом, не из тех, с которыми люди привыкли иметь дело, а, скорее, из тех, которые сами привыкли иметь дело с людьми, равно как и со всеми другими устройствами".
или так:
"Видны были только руки и глаза. Это существо, покрытое как бы скафандром из сгустившегося мрака, могло видеть предметы и дотрагиваться до них. Всё остальное, по-видимому, было излишним, и на него не стали тратить время, но ничто не мешало предположить и другой вариант: оно было настолько устрашающим, что его предпочли скрыть от посторонних глаз. Осторожность подсказывала, милосердие отвлекало и смотрелось глуповато. Эти существа – кто они? Наши прямые предшественники или те, кто в ближайшее время сотрёт нас с лица земли? Все вопросы, которые мы прежде перед собой ставили, оказались вдруг неверными, неправильно сформулированными. Мы даже испытывали некоторую досаду на тех, кто, как будто нарочно, чтобы как-то нас отвлечь, научил нас именно так ставить вопросы. Даже возникло какое-то фантомное желание на них сердито оглянуться – но смысла в этом, как мы понимали, было не очень-то много, потому что там, за спиной, уже никого не было. Поэтому всё, что нам оставалось, – смотреть и ждать, что оно будет делать".
или вообще вот так:
"Призраки не являются, вероятно, потому, что не существуют. Некоторые думают, что сознание тех, кому они всё-таки явились, слишком воспалено, что их мозг работает как-то неправильно, они слишком впечатлительны, их воображение способно создавать иллюзию присутствия чего-то иного, чем они сами. Или, возражают им другие, там, куда уходят призраки, всё настолько иначе, что здешние заботы перестают их занимать, их ощущения изменяются, у них пропадает всякое чувство привязанности к нашим вещам. Явившийся призрак в этом случае предстаёт каким-то бракованным, неправильным. Как будто его сочли негодным для мира иных предметов и отправили назад, вот он и мотается, неприкаянный, не будучи в состоянии прикоснуться к нашим вещам и не будучи удостоен прикоснуться к тем вещам, он попросту пугает людей для собственного развлечения. Вот потому-то и говорят, что, встретив призрака, следует переступить через свой страх и попытаться пройти его насквозь. Как в кино, когда кто-нибудь вдруг встаёт посреди сеанса, и тогда часть изображения исчезает, потому что тело служит ему препятствием. Но страх, который мы испытываем при встрече с призраком, – он настоящий, хотя вреда этот призрак причинить нам не может. Но вот мы, переполошившись, пытаемся убежать и иногда сами причиняем себе вред, наткнувшись на что-нибудь. И из этого потом раздувают целую историю: никому не хочется признаться в том, что так испугался какого-то привидения. И появляются всякие леденящие душу истории о кровожадных выходцах с того света. Но тому, кто учился иметь с ними дело, призраки не внушают страха, напротив, они его подбадривают. Как бы зловеще они ни выглядели, самый их вид всегда внушает доверие. Как будто бы мёртвые заботятся о живых, стремятся подготовить их к переходу".
Предметы, не отбрасывающие тени
– Не отбрасывают тени. Или отбрасывают, но совсем маленькую тень. Стало быть, солнце светит прямо на них или почти прямо. Нет причин отбрасывать тень, когда светят прямо на тебя. Во всех иных случаях следует достичь абсолютной прозрачности, а это абсурдно. Ангелы не отбрасывают тень, поскольку сами тени. Голографические изображения. Их употребляют, когда хотят что-нибудь сообщить героям. Обыкновенно какие-нибудь хорошие новости. Для плохих новостей у них особая порода, слабо отражённая в иконографии. То, что принято называть "маской скорби". Их все боятся и ненавидят, хотя, в сущности, это просто машины. Или, быть может, именно за то, что они просто машины, а хотелось бы проблеска чего-то человеческого. Прежде для этого действительно употреблялись люди, но они слишком быстро изнашивались, так что их заменили на эти штуки. Я сам несколько раз видел такую, хотя об этом не очень-то прилично говорить. Её, должно быть, скопировали с какой-то малоизвестной статуи, во всяком случае, ритуальной маски. Она приблизилась прямо к моему лицу, так что я смог заглянуть в отверстия для глаз и увидеть то, что должно было произойти. Это ещё не самые плохие новости, подумал я, потому что, говорят, – хотя, как было сказано, об этом не очень-то прилично упоминать, – некоторые видят там мрак, темень, ничто. Вот это действительно плохие новости. Да, так вот, тени. Что-то в них есть от ангела, бесплотность, лёгкость, способность занимать положения, человеку недоступные, взлетать, колебаться, преображать форму отбрасывающего их предмета, делаться огромными, двоиться, троиться, перекрещиваться, исчезать без следа и вновь воскресать. Они могут то, чего мы не умеем, они умнее нас. Все в детстве с ними играются, а потом вырастают и как бы забывают. А не стоило бы.
День нисхождения духа
С давних пор Х. преследует какое-то навязчивое воспоминание. Как будто бы в детстве праздновали День Нисхождения Духа.
Будто бы приносили стеклянные шары с апельсин величиной и выкладывали на столе, затянутом плотной тёмно-синей тканью. Приносили неизвестно откуда. Говорили, в них запаян Дух.
Дети собирались вокруг стола и глядели во все глаза на эти шары. Поверхность шаров была скользкой и не очень ровной, как будто их сморозили из льда. На ткань падали зыбкие неровные полукружия.
Долго просто глядели и не решались до них дотронуться. Потом кто-нибудь, наконец, не выдерживал и брал один шар. Повертит в руках и как хрупнет об пол. И все тут же, один за другим, тоже хватают шары и с размаху швыряют об пол.
Слышен звон, вскрики, Дух, вырвавшись из своей стеклянной кожуры, быстро распространяется в воздухе, дети его вдыхают большими глотками, все охвачены лихорадочным возбуждением, Дух заполняет их лёгкие, сердца колотятся быстро-быстро, кажется, что сейчас и их тельца разорвёт в клочья и швырнёт об пол, где они смешаются со стеклянной крошкой. А Дух, напитавшись их крошечными душами, выдавит стёкла из окон и бросится, как некогда, носиться над водами Финского залива.
Так продолжается некоторое время, потом Дух постепенно рассеивается, растаскивается сквозняками, так что к утру и следа от него не остаётся. А стеклянную пыль собирают в большие совки и выносят прочь. Так, по крайней мере, он помнит.
Как-то, случайно встретившись с кем-то из тогдашних детей спустя более двадцати лет, решает спросить: что, точно ли такое было? Да и могло ли? А спросив, ждёт в величайшем напряжении, стараясь скрыть волнение. Вдруг окажется, что это причуды памяти.
Знакомый несколько медлит с ответом. Выглядит так, как будто бы вспоминает. Потом его лицо принимает слегка растерянный вид. Он говорит: я теперь не могу сказать с уверенностью. Прошло столько лет, что я легко могу ошибиться. Вроде бы даже и было, если не так в точности, как ты говоришь, то что-то очень похожее. Во всяком случае, это могло быть. Да, наверное, так. Синюю ткань, по крайней мере, я очень хорошо помню.
Такой ответ не столько удовлетворяет любопытство Х., сколько ещё больше его распаляет. Он думает об этом остаток вечера.
Разнообразные формы отношения к потерянным вещам
А., потеряв какую-либо вещь, стремится как можно скорее заменить её на другую, такую же. Б., потеряв какую-либо вещь, также стремится скорее заменить её на другую, которая ничем бы не напоминала прежнюю, а была бы её полной противоположностью. В., потеряв вещь, ничем не пытается её заменить, оставляя в этом месте пустоту определённой формы и размера, со временем он оказывается окружён пустотами разной конфигурации, так что для других, непустых вещей остаётся всё меньше места, да и те рассматриваются с точки зрения того, какие свойства будет иметь соответствующая им пустота. Г., потеряв какую-либо вещь, через день забывает о ней. Д., потеряв какую-либо вещь, не может этого пережить. Е. никогда не теряет вещей. Ж. вовсе не приобретает никаких вещей. З. сам по сути своей является потерянной вещью. И., потеряв какую-либо вещь, испытывает чувство облегчения.
Парковые статуи напротив водохранилища
Две фигуры слева имели вид оскорблённый. Точно их лица окунули в скорбь, подержали в ней, пока они как следует ею не напитаются, потом вытащили и просушили. Чего не скажешь об их телах, имевших какой-то приплясывающий вид, кисти рук брали непонятные аккорды и явно к происходящему не относились. У фигуры справа черты лица были немного сколоты, оставшиеся переползали на нетронутую половину, взгляд был направлен куда-то в землю и, кажется, пристально шарил в траве, стремясь что-то в ней отыскать или же спрятать. На переднем плане располагалось небольшое животное вроде панголина. Смысл происходящего был неясен, никаких надписей с разъяснениями в пределах видимости обнаружить не удалось. Эта скульптурная композиция была излюбленным местом паломничества учителей словесности, которые в весеннюю пору приводили сюда группы школьников, предлагая им неудобопонятный артефакт в качестве темы для сочинений, дабы пробудить в них фантазию и чувство.
Адеодат и дети
"Человек, чья душа не переполнена чувствами, подобен пустому бурдюку, – говаривал Адеодат. – Человек же, чья душа до краёв исполнена чувствами, подобен полному бурдюку. Словом, в каком бы состоянии человек ни находился, он всё равно подобен бурдюку".
"Что вы всегда такой мрачный, Адеодат. Поглядите-ка лучше на играющих детей".
Адеодат прищурился и с подозрением посмотрел на детей, игравших в куче мусора. На их трогательные игрушки, все эти миниатюрные машинки, коляски, мясорубки, скунсы, астролябии. "Зачем вы мне это показываете? – спросил Адеодат. – Хотите меня кастрировать этим зрелищем?" Присутствующие неловко переглянулись: они и в самом деле хотели.
Сцена с двумя поэтами
Два поэта препираются между собой.
1-й поэт: Ты мёртвый.
2-й поэт: Это ты мёртвый.
1-й: Да я-то живой. А ты мёртвый. Совсем мёртвый.
2-й: От мёртвого слышу. Вон как от тебя трупом разит. А я жив-здоров.
1-й (подозрительно): Чем докажешь, что ты живой?
2-й: Например, у меня эрекция. Щас покажу. (Показывает.)
1-й (брезгливо): Убери. Это ничего не доказывает. С мертвецами такое сплошь и рядом случается. А как трупное окоченение пройдёт, так и попускает. А у меня зато зрачки на свет реагируют.
2-й (подозрительно): Ну-ка покажи. Видишь, там светит что-то. (Указывает рукой.) Посмотри в ту сторону.
1-й смотрит, куда указывает 2-й. 2-й пристально вглядывается в зрачки.
1-й: Ну?
2-й: Не, не реагируют. Вообще никак.
1-й: Лжёшь. Завидуешь.
2-й: Да чему тут завидовать. Разве только посочувствовать.
Источник света, на который указывал 2-й, между тем приближается, и вскоре из тумана, покачиваясь, выплывает лодка. На носу стоит Лодочник с фонарём в руке. 1-й и 2-й, сразу как-то присмирев, глядят на Лодочника.
Лодочник: Ну что, плывём?
1-й (осторожно): А куда?
Лодочник: Известно куда. На ту сторону. Плату приготовьте.
1-й (шарит по телу руками, проверяет карманы): А у меня денег-то и нет. (2-му, с надеждой.) У тебя, может, есть?
2-й (саркастически): За щекой поищи, вдруг чего положили.
1-й (тщательно шарит языком за щекой, в конце концов вынимает изо рта монетку): Смотри-ка, положили. Не забыли. (С торжеством протягивает Лодочнику монетку, тот пристально её рассматривает, после чего возвращает назад 1-му.)
Лодочник: У нас такие не принимают.
1-й (встревоженно): То есть как это – не принимают? (Разглядывает монетку, плюётся.) Чччёрт, это жетон для метрополитена, да ещё старого образца. Вот сволочи!
2-й (саркастически): Что не жалко было, то и засунули. Это уж как водится.
1-й: Ты лучше поищи – вдруг тебе тоже что положили. Может, тебе больше повезло.
2-й (долго исследует языком ротовую полость, вращая глазами): Ни черта не положили. Ещё и коронку вытащили, суки.
Лодочник: Ну, тогда я вас не повезу.
1-й и 2-й (вместе, в отчаяньи): Что же нам тут, до конца времени сидеть?
Лодочник: Зачем до конца времени? Подождите, пока вас тут накопится хотя бы полсотни, когда накопитесь, за вами пришлют муниципальный паром. А я частными перевозками занимаюсь.
Отчаливает. 1-й и 2-й грустно провожают его взглядами. Потом садятся на берег и начинают играть с жетоном. Всякий раз, когда жетон падает, смотрят и с удовольствием вскрикивают: "М! Мёртвый!"
В травах
В травах слежались они в мохнатую пегую кучу. Куча грелась и жмурилась. Один шаг: куча вдруг воззрилась на него двумя десятками чёрных мокрых глаз и мелко разбежалась по воде в разные стороны. J. объяснил ему потом: они способны принимать решения, лишь собравшись в единый думающий и разумный организм, по отдельности же действуют совершенно механически, не сознавая себя, но продолжают держаться в поле некоторого общего зрения, иначе не сказать. G. думал: что чувствует такой организм в момент своего рассеивания? Ужас, страх, что-то, сравнимое с чувствами, обуревающими человека, такого, как он или J., в предчувствии смерти? Ему трудно было вообразить: несколько раз в жизни он находился в предчувствии смерти, испытал при этом некоторый род восторга. Точно все части тела его вот-вот в восторге бросятся врассыпную. J. возразил, что это свойство молодых конгломераций.
Мечта
– Вам бы развеяться, что ли. Исполнить какую-нибудь свою детскую мечту. Была у вас детская мечта какая-нибудь?
Филиппов подумал и ответил:
– Я мечтал завязать лебедя узлом.
Профессор поморщился:
– Фу, какая дурная. Другой, получше, у вас не было?
– Нет, другой не было.
Юлия и Августа
Юлия и Августа принарядились. Идут, все в лентах и шёлковых цветах. Прохожие им: "Куда это вы, девушки, такие красивые". А они: "Да на похороны, потанцевать". "Ну, ничего, идите, танцуйте". Вдруг одна спотыкается и ломает каблук. И тут же земля её проглатывает. Теперь осталась то ли Августа, то ли Юлия, с этой точки невозможно различить. Город у нас с виду простой, если смотреть с воздуха, – параллельные ровные линии образуют аккуратные клетки. Только это его нарочно так выстроили, с таким расчетом, чтобы обмануть марсиан (тогда это просто пандемия была), а если по нему пройтись, то там сплошные бугры и рытвины, и ни через какие две точки невозможно провести прямую линию. Иногда земля поглощает людей и скот, а кости сплёвывает в залив, детишки подбирают их на берегу, делают из них украшения. А Августа или Юлия между тем продолжает свой путь, слегка приплясывая, сегодня, можно сказать, её день.
Непристойность
V. обычным своим спокойным тоном отдавал какие-то рутинные распоряжения. Всё это время по лицу его, точно из плохо закрученного крана, текли слёзы. Казалось, он их совсем не замечал, хотя один или два раза доставал из кармана бумажную салфетку и аккуратно промакивал влагу с лица. В этом было что-то отталкивающее, не вполне пристойное, как будто V. потел глазами.
Теогония, открытая и описанная пациентом Р.
"Высшее божество шарообразно и непрерывно вращается. Больше сказать о нём нечего. И этого тоже не надо было говорить.
Младшие божества являются результатом неправильной дешифровки записей. Они постоянно пребывают в вечном блаженстве и стремятся к самоуничтожению. Они обладают способностью порождать из самих себя низших божеств, что-то вроде домашних животных, которые то возникают, то исчезают. Однако низшие божества наделены иллюзией непрерывности собственного бытия. Именно они творят человека по своему образу и подобию. Они делают это в отместку.
Все отношения, существующие между людьми и низшими божествами, имеют природу шумов".
Приближение
Тогда двери бесшумно разъезжаются, и он, качнувшись, сходит на платформу. Выпотрошенный ландшафт. Точно вынули из него глубину, как позвоночник из рыбьей тушки. Все предметы равноудалены, хотя не одинакового размера. Можно положить их рядом: колокольня величиной с айву. По мере передвижения чувствовал, как вращается барабан, на котором была изображена панорама. Потом её как будто начали раскручивать, сперва осторожно, как бы ребёнка на карусели, потом сильней, сильней, пока вдруг не открылось, что ландшафт совершенно неподвижен, а его собственный мозг внутри черепной коробки, вздетый на ось, сам вертится, как проклятый, пуская мелкие искры. "Странное ощущение", – пронеслась внутри мысль, но мысль эта, как и сопутствующее удивление, принадлежали не ему, а какому-то другому человеку, бесцеремонно вторгшемуся в его сознание. "Вы прежде такого не встречали?" – это уже какая-то дама, и тут он почуял, что дама здесь просто из любопытства, тогда как тот, первый человек, имеет свой, весьма конкретный, хотя пока не ясно, какой именно, интерес. "Встречал, разумеется, и всё же это всякий раз выглядит очень странно". – "Как вы думаете, он нас слышит?" (Снова дама.) – "Не хуже, чем мы его". – "Ему, должно быть, очень страшно". – "Нет, страх мы отключили на время, это могло бы помешать". – "Вы и так мешаете", – попытался он вклиниться в беседу, но немедленно почувствовал, что орган внутренней речи как будто парализован, и эту нехитрую мысль он, как ни бился, не мог выразить даже в самых простых словах. Потом внезапно обнаружил себя лежащим на чём-то мягком и высасывающем его из собственного тела, точно устрицу.
В сумерках
[F] живёт не во мраке, а словно бы в сумерках.
Окружающий мир для него заполонён словами, за которыми брезжат некоторые вещи и обстоятельства, смысл которых он не в состоянии схватить, но остро ощущает его присутствие.
Как будто мир расслоился на три неоднородные части.
Первый мир – простой, осязаемый и доступный для непосредственного взаимодействия с ним, мир чувственных вещей, в котором он сам предстаёт для себя простой и ясной вещью. Они неразнородны и не разделены.
Над ним угрюмой грядой возвышается мир слов. Они притягательны в своих странных, иногда певучих, в другой раз скрежещущих звучаниях – ему нравится повторять услышанные слова, иной раз безбожно их перевирая, что всегда служит для него источником какого-то ликующего наслаждения, – но также и внушают страх, во всяком случае, подозрение.
Наконец, за этой грядой открывается угрюмый, открыто враждебный мир смыслов. Они мнут, пригибают и увечат его сознание, которое от этого сжимается в одну точку, спрятанную где-то в самой глубине живота.
Получается, что слова двойственны. Они одновременно и привязывают смыслы к вещам, и защищают вещи от них. Смутно [F] чувствует, что, не будь этого заграждения из слов, смыслы набросились бы на вещи и сожрали их. Смыслы враждебны всем вещам так же, как враждебны они [F] как одной из них. Вещи есть всегда: это он чувствует как некоторую очевидность. Смыслы – то, что стремится ничтожить вещь, и это внушает ему отвращение и ненависть. Она скользит по касательной, доставаясь словам. Когда слов вокруг слишком много, [F] не может этого вынести – он крепко зажмуривается, зажимает уши руками и начинает раскачиваться из стороны в сторону, издавая долгое низкое гудение. Это должно подействовать, тогда слова уходят на какое-то время.
Голод
Вошёл в комнату как-то боком, точно пытаясь протиснуться, хотя протискиваться вроде было незачем – все расступились, или, как лучше сказать – отпрянули? ну, положим, "отпрянули" – это слишком выспренне, хотя "расступились" также несёт в себе слишком много пафоса, с другой стороны, нейтрального слова для обозначения этого действия, кажется, не существует, да и не удивительно, само действие не то чтобы нейтральное, откуда же для него возьмётся нейтральное слово, ну или это должен быть совсем уж какой-то другой мир, в котором есть нейтральные слова для всего вообще, ну, словом, все дали ему пройти, и он направился к столу и расселся там во все стороны, так что стало казаться, что рук и ног у него больше, чем он мог себе это позволить, он сказал: "Поесть дайте", – и кто-то робко протянул ему контейнер с едой и пластмассовую вилку, тут он начал очень быстро есть, почти не разжёвывая, резко сглатывая, каждый раз при этом на лице его появлялось такое выражение, точно он не то кого-то убивает, не то испытывает оргазм, в общем, как будто ему хорошо, как только очередная порция еды соскальзывала вниз по пищеводу, оно вновь возвращалось в первоначальное состояние, лишённое всякого выражения, как у новорожденного младенца, так продолжалось до тех пор, пока еда не закончилась, тогда он сделал рукой такой жест, каким – ну, я даже не знаю, вот знаете, как отмахиваются от мухи? А теперь представьте себе, что от мухи не отмахиваются, а наоборот, приманивают. Так вот, он сделал такой жест, каким приманивают муху. Тогда ему выдали ещё один пластиковый контейнер с едой и ещё одну вилку (зачем-то). Когда его инфернальный голод был если не удовлетворён, то, по крайней мере, разжалован, то решились, наконец, и спросили: "Как там?" Он огляделся на вопрошающих каким-то уже довольно осмысленным взглядом и ответил: "Есть там нечего".
Шахматы
"Веди, говорит, себя осторожно, а то права отберут". – "Какие права?" – "Да на ведение себя. Тёмной стороне передают управление, когда темно, а на свету её движения слишком заметны и внушают ужас". – "Что значит "когда темно"?" – ""Когда темно" значит "когда ничего не видно уму". Ум может быть близоруким или дальнозорким, сначала нужно выяснить, с какой именно из этих двух разновидностей мы имеем дело". – "А бывает так, что ум ни дальнозорок, ни близорук?" – "Бывает, но крайне редко. Людей с подобными свойствами ума, вообще говоря, следует избегать. Но большинство людей не способно предвидеть отдалённых последствий своих поступков, другие же, напротив, обладают стратегическим умом, но манкируют близлежащими деталями. А ими нельзя манкировать". – "Тогда нельзя восстановить картину события". – "Да, невозможно восстановить картину события без мелких деталей. А бывает ещё и так: мелкие детали остались, а само событие как бы испарилось, скрылось – тогда, правильно передвигая детали, можно нарисовать совершенно другую картину, прямо противоположную, а мелкие детали подтвердят её достоверность". – "Как в шахматах". – "Да, как в шахматах".
Перезагрузка
J. говорит: "Это было очень странное ощущение, то есть в этот момент я вполне осознал, что я – машина. Ну, такая мысль иногда возникает и в повседневной жизни, допустим, если человек выпил лишнего и замечает вдруг, что зажигает сигарету, в то время как другая, уже зажжённая, дымится в другой руке. Или если спросонок произносит какую-то фразу, смысла которой сам не может уразуметь. Но это было что-то в совершенно другом роде. Представьте себе ощущение, которое бывает во время так называемого дежавю. Как будто до вашего мозга кто-то дотрагивается изнутри. Но самого дежавю, никакого наполнения прошлыми или воображаемыми прошлыми ощущениями не происходит. Как будто ваше сознание перезагружают, и оно лишено какого бы то ни было содержания, и вы в этот момент – как вы себя мыслите и воображаете – оказываетесь всего лишь ничтожной плёнкой, каким-то побочным эффектом действия механизма, не имеющего о вас никакого представления. Это очень странное ощущение, не столько болезненное, сколько пугающее. После этого у вас уже нет никакой собственной истории, никакой эмоциональной привязки к местам и лицам. Вы больше не человек – в определённом смысле этого слова. Всё, что у вас есть, – это смутная память о том, как это должно выглядеть снаружи, какие слова и мимические ухищрения нужно применить в том или ином случае, но вы слабо представляете себе, зачем это нужно делать. Вам принадлежат теперь только базовые эмоции – гнев, страх, отвращение, ярость, иногда похоть. Спустя какое-то время вы перестаёте воспринимать это состояние как странное – странным становится мир вокруг вас. Вы всё меньше способны понимать его и вовсе не способны почувствовать – то, что внутри вас, больше не опознаёт эти предметы как знакомые и понятные, каждый из них содержит угрозу. Вы каждый раз вынуждены проверять, сверяться с каким-либо источником. Вы больше не являетесь частью некоторого продуманного и срежиссированного плана, вы предоставлены себе самому, поэтому чрезмерное напряжение то и дело сменяется абсолютной апатией, полным оцепенением воли. Вы действительно думаете, что хотите этого?" – "Думаю, именно этого".
Зазор: отсрочка
[ ] желал бы того, чем, по всей видимости, не обладал, в противном случае не стал бы желать этого – или, как это лучше сказать, желал продолжения этого обладания, то есть, как мы понимаем, свойство, которое мы стремимся сохранить и боимся утратить, не является нашим свойством вполне, какое-то не вполне свойское свойство, скорее, область, прикоснувшись к которой, мы отчасти перенимаем её облик, но это больше мимикрия, чем полное преображение, а [ ] желает именно преображения. Скажем, тот, кто говорит. И это становится. Нет зазора между словом и делом, при произнесении оно становится. Вот полное преображение. Но это не значит, что [ ] на своём не умеет настоять – это как раз тот навык, который заменяет преображение. С непривычки нетрудно спутать, но, сличив, всегда видишь то, что очевидно: зазор. Предметы сопротивляются, у них своя воля. Иногда и не воля даже, а каприз. Каприз в некотором ракурсе коварней, чем воля. В нём нет её прямолинейности, её упёртости, каприз всегда готов обернуться другой стороной, оставив нас в замешательстве: действительно ли здесь наш навык или просто перемена облачности? С капризами, как с тенями от облаков, следует быть всегда настороже: через них воля являет себя чем-то текучим, неопределённым, как будто подбрасывает бумажные куклы, чтобы нас отвлечь. А в чём она сама? Непостижимо. Но вот они уже нас и отвлекли, вот мы уже как бы и обронили нить, запетляли. Нет, [ ] своего в конце концов всегда добивается, но это не само собой, это всегда результат изматывающих тяжб. В конце каждой такой тяжбы неизменно оказывается, что время истекло, что удовольствие, которое он должен был получить, достигнув желаемого, истаяло, что на его месте образовалась лакуна, в которую медленно протекло совершенно другое чувство – удовлетворения от того, что всё-таки настоял на своём, выиграл тяжбу. Сам предмет, о котором шла речь, опустошён и обращён в фигуру. Таким образом, всё обретает характер затянувшейся шахматной партии. Когда речь идёт о шахматах, не имеет значения, сделаны ли они из дерева, слоновой кости, картона, нефрита, хлебного мякиша. Это всё свойства вещей. Некто может держать в руке ладью, выточенную из оникса, наслаждаясь её гладкостью, светом, прозрачностью, тяжестью, но это не игрок. В данный момент, во всяком случае. Потому что все эти свойства ладьи открываются лишь в отрыве от её основного предназначения – быть ладьёй. Ладья не ладья, когда мы глядим её на просвет или взвешиваем на руке. Не так определяется тяжесть или лёгковесность той или иной фигуры. Но, как мы сказали, предметы иссякли, стали полыми, вместо них появляются фигуры. Выявляется странное: например, как в шахматах, нужно пожертвовать чем-то тяжёлым, чтобы выиграть. И тут последнее сомнение, способное как-то повернуть нас к вещам. Удержать их как вещи – но тогда потерять огромный мир фигур, порядка и числа. Вещи не любят порядок. Удержать их как вещи – но тогда проиграть тому, кто сильнее, кто был твёрже в своём отвержении вещей, вот что страшно. С этого же мы, кажется, и начали. Свойством мало овладеть, его следует удержать, но не отождествить себя с ним. Это невозможно. И тогда – другие, способные проявить большее упорство. Не говоря о том, что истинный противник лежит далеко за пределами этих, видимых, которые и сами фигуры. Он – не обладатель свойства, но само свойство. Он свойство, он обладает вещами. Вот где жуть, вот где крах. Он где-то в конце маячит как неизбежный проигрыш, и тогда всякий выигрыш оборачивается отсрочкой. Вещи же слишком тяжелы, чтобы их сдвинуть. Это фигуры можно двигать силой мысли, можно даже не совершать никаких движений, просто назвать номер клетки. С вещами не так. Тяжестью, плотностью, фактурой. Вещи всегда застают врасплох. Они не наши, они того, иного, маеты о вещах. Не следует думать, что, играя в них, можно выиграть.
Подделка
"Какая грубая подделка", – подумал F., оглядев место преступления, и тотчас почувствовал, насколько эта мысль была лживой, как будто бы высказанной напоказ, чтобы скрыть свои истинные чувства, потому что в самой этой грубости уже содержалась явная насмешка, легко считываемое сообщение. Кажется, что это настолько топорно сработано, что и дурака заставит насторожиться. И дураку придёт в голову, что всё слишком грязно сделано. И вот в этом-то зазоре прозревшего и обретшего внезапно ум дурака и скрывается высшее наслаждение для того, кто наблюдает с той стороны. Потому что эта декорация вовсе не предназначена для того, чтобы кому-либо отвести глаза. Эта декорация – такая же условность, как шевелящиеся волны, движимые посредством прокручивания валиков, или бескрайняя синь неба, в котором, как по волшебству, зажигаются звёзды. Никто не ждёт по-настоящему, что в это кто-нибудь поверит. Все знают, что перед ними сцена, и тыкать носом в нарочитую искусственность декораций – ребячество, как если бы дитя вдруг вмешалось в ход действия пьесы, пытаясь отвести руку злодею. Тут же родители подхватывают ребёнка и выводят, и действие продолжается своим чередом. В этом было что-то глубоко унизительное, что F. внезапно ощутил как спазм отвращения. Оно стояло там, огромное, игривое, мерзкое, готовое в любой момент смахнуть фигуры, перевернуть доску, стереть с лица земли противника, много более изощрённого, но бесконечно более слабого. И гнусная усмешка уже виделась плодом воспалённого ума, стремящегося увернуться от сознания собственного бессилия.
Праведность
Стоял и проповедовал Слово. Привязались, начали опять двадцать пять за рыбу деньги:
– Отчего ваша церковь всегда на стороне преступных властей? Почему отпускает грехи разным бандитам, – и прочее, что они всегда имеют обыкновение повторять. Как по бумажке, никакого воображения.
Взглянул на них ясными глазами:
– Церковь должна быть с бандитами. Им это нужней. Иисус приходил не к праведникам. Праведники и сами спасутся. Иисус приходил к мытарям и блудницам. И к разбойникам. Разве это не ясно?
Пристыженные, кознодеи оставили свои вопросы и отошли в сторону.
Разговоры
Говорил:
– Взгляните на ваши идеалы. Форма ещё узнаваема, но до чего измятые, изгвазданные. А были новые, блестящие. Те, у кого вместо этого были какие-нибудь неброские и приземлённые жизненные принципы, выглядят лучше.
А те отвечали:
– Потому что ими пользовались. Не пользовались бы – до сих пор были бы новые и блестящие. Вон как у этих.
Эти же глядели в сторону и делали вид, будто разговор вовсе и не про них, а про других каких-нибудь. Но вот эти другие, про которых делали вид, и в самом деле не слышали. Барахтались в пыли, как воробушки, отрадное зрелище.
Второй раз
"...тогда они сделали выбор в пользу хаоса. Как в те ещё времена. Конечно, не совсем, как в те ещё времена. Тогда хаос был праздником. В нём как будто заквашивалось, бродило и обещало родиться другое, новое. Хаос был ожиданием. Хаос был обещанием. Обещанием чего-то такого, ради чего было не жалко претерпеть определённое количество лишений. Теперь они смотрели на результат. Оглядывали его со всех сторон. Вдумчиво, внимательно его изучали. И в конце концов снова выбрали хаос. Этот хаос не обещал уже ничего. В нём не было и намёка на зарождение лучшего, иного космоса. Он был сам в себе. Они с наслаждением отдавали ему на съедение всё, что у них было, как им прежде казалось, ценного. Они ликовали".
Они ждут
Они ждут. Замерли, как будто сами себя изваяли. Для того чтобы перестать быть собой, стать своим изображением, нужно немного. Не нужно даже того, кто смотрит. То, что для этого нужно, – тишина. То, что можно нарушить. Здесь сгодится любой звук. Эту характерную особенность подметили и вычислили задолго до начала событий предполагаемой пьесы, но они об этом ничего не знают. Они сами открыли это для себя и замерли в беззвучии, как будто бы сотворили обряд в честь божества, в благости которого и сами глубоко сомневались. Благость вообще не к лицу божествам, они от этого дряхлеют.
Прежде, если бы их спросили, чего именно они ждут, каждый ответил бы в подробностях. Да так, что неминуемо увязал в этих подробностях, путался, терял нить. Ошибался дверью. Так что в конце в глазах начинало двоиться, троиться, множиться. И в то же время это было то, ровно то, чего они хотели. Точно их желание, как усечённый волос, расщепилось и торчало во все стороны. Другую такую досаду для следствия и не выдумаешь.
Время, однако, забирало то одну черту, то другую. Контур размывался, подробности более не имели значения. Хотя сперва казалось, что дело именно в них. И даже будто бы субстрат существовал не сам по себе, как отдельное живое (ли?) существо, а лишь как носитель этих подробностей. И что когда-нибудь он исчезнет, растворится, как дым, а подробности останутся. Ради них и затевались. Ан нет. Говорим это без всякого злорадства. Даже и не без тихой грусти.
И вот уже не только элементы, но и общие контуры. Да. Общие контуры стали настолько приблизительны, что полшага в сторону сделают их совершенно неузнаваемыми. То есть практически кто угодно мог бы встать на это место и сказать. Сказать: вот оно, то, чего вы ждали. И тогда они уже не смогут толком вспомнить и сличить. Потому что сличать уже не с чем. Контуры, как мы сказали, размыты и крайне приблизительны. О разных тонкостях вроде цвета, пола, истории уже и речи не идёт. Кто угодно мог бы прийти и сказать: вот оно, и тогда они бы всё ему отдали. Кто-нибудь мог бы этим воспользоваться.
Но у них ничего больше не было, вот в чём соль. Ничего такого, чем можно было бы воспользоваться. И едва ли это можно было бы назвать везением. Разве только если бы захотелось нехорошо пошутить. Но, вроде бы, шутить уже никому не хотелось. Всё, что у них было, они уже отдали. Всё, что у них было, съела мечта. Величайшая мечта, заметим. Величина мечты, как известно, совершенно не зависит от масштаба предприятия, о котором идёт речь. Великая нация точно так же способна породить великую мечту, как какой-нибудь захудалый народец, чьё место на карте никак не обозначено в связи с отсутствием претендентов на занимаемую им территорию.
Так что они просто ждут, и их ожидание, сделавшись бесформенным, бесконтурным, бестелесным и безымянным, достигло чистоты такого градуса, при котором и песок заговорит, если его расспросить хорошенько.
|