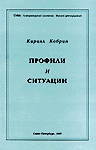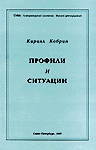"До свидания, мой дорогой", – сказал приятный, несколько старорежимный голос – и трубку повесили. Так началось мое (заочное) знакомство с Александром Пятигорским. Цитированной фразой Пятигорский завершил разговор с Игорем Померанцевым, и то обстоятельство, что последний ведет передачу на радио "Свобода", предопределило разложение сих телефонных слов в короткие радиоволны, так что пришедший откуда-то я заарканил их своим приемником примерно в семь пятьдесят пять вечера. "В передаче принимали участие... профессор Лондонского университета Александр Пятигорский", – сообщил мне (уходящему из кухни) в спину Игорь Померанцев. Дуэт Чика Кориа с Гарри Бертоном закончил фразу позывных. Слушать новости было лень.
Дня через два пришли очередные "Вопросы философии". Там профессор Лондонского университета Александр Пятигорский отвечал на вопросы корреспондента. "Что за чертовщина!" – (словно какой-нибудь Портос) подумал я и прочитал интервью. С того дня я охотился за текстами этого русского лондонского профессора, ловил его голос на все менее призрачных либертианских радиоволнах, искал его фамилию (которой не хватило всего двух холмов до города Св. Петра) в чужих статьях и интервью. Было эссе о Живаго и эссе о Мамардашвили, опубликованная повесть "Философия одного переулка" и нигде тогда не опубликованная повесть "Вспомнишь странного человека..." Но откуда у меня это юношеское рвение и страсть? Почему?
Нижеследующий текст, надеюсь, намекнет на ответ. Если нет, то виноват в этом не я, но ты, читатель. Одно только предуведомление: я не пересказываю основных идей Пятигорского и не раскрываю своих соображений о его текстах (прежде всего, прозе). Я пытаюсь переписать эти тексты, т.е. написать их так, как я бы написал...
2. УВЕРТЮРА II
Постоянный герой (как бы его ни звали) прозы Пятигорского – результат сгущения, материализации его философского подхода к поведению "настоящего человека" (не в полевом смысле) в определенных, скажем так, "исторических" условиях. В текстах Пятигорского (в "Философии...", в эссе о Живаго) частенько возникает Гурджиев, который важен автору тем, что "для Гурджиева Бог – приключение" (цитата неточная), а именно – в эпоху, когда из истории уходит смысл, человек не может поддерживать своей энергией устоявшийся (но уже обессмыслившийся) канон, значит, человек остается один и начинает искать (может быть, в детективном смысле, в честертоновском) Бога в одиночку. Или искать в одиночку смысл, что, вспомнив "Книгу Иова", не совсем одно и то же. При этом человек механически поддерживает свои социальные связи, социальный статус. Последнее очень важно, т.к. "мысля" (удерживая мысль), человек ее отсекает от прочего, он мыслит мысль (помысливает ее) в пустоте ("мысль – форма пустоты" – из эссе Пятигорского о Мамардашвили), но продуцировать эту пустоту вовне – преступление, рождающееся из подмены внутреннего внешним.
Когда смысл уходит из истории, она становится "контекстом". История – контекст, наполненный смыслом. Этот смысл может быть органическим (в переживаемой в тот или иной момент истории – тут можно говорить о "судьбе" в словоупотреблении Шпенглера), либо привнесенным историком. Историк может превратить контекст какой-либо прошлой эпохи в ее (эпохи) историю, но это будет смысл той истории, в которой живет историк. Если вокруг историка – контекст, то "оживить" прошедшую эпоху он не сможет. Можно и так рассматривать исторические труды... Таким образом, история не только может иметь смысл (когда она, собственно, история, а не контекст), но и наделять им реконструируемый период времени.
Постоянный герой прозы Пятигорского живет не в истории; он окружен контекстом; в лучшем случае, вокруг него история обессмысливается (как для Михаила Ивановича из "Вспомнишь странного человека...") и герой вынужден спасать себя, свою мысль, цепко держась за нее. Контекст этому герою малоинтересен. Поэтому в "Философии одного переулка" так мало о кошмаре 30-х гг., ибо это – контекст1. В некотором роде, ключом для понимания прозы Пятигорского являются два его эссе: о Мамардашвили и о Живаго2. Можно даже сказать, что проза Пятигорского – в прямом смысле "символистская" интерпретация этих двух текстов (причем, неважно, что во времени та или иная проза могла предшествовать тому или иному эссе). Основное состояние излюбленного Пятигорским героя – "метафизическое честолюбие часового на оставленной позиции" (по выражению Ницше). Именно в этом – коренное родство такого героя с Симором Глассом (помимо интонационного сходства текстов Пятигорского и Сэлинджера – например, форсированной "восточности").
Чем же этот герой занимается? "В нынешнем промежуточном времени надо смыслы пропускать через себя", – говорит Дедушка в "Философии одного переулка", – а это посильно сделать, только когда ты замер, недвижен, как мертвый". Иначе говоря, когда из истории уходит смысл и история превращается в контекст ("промежуточное время", или, как я бы сказал, "необязательные обстоятельства"), остывающие контекстуальные смыслы (pluralis!) необходимо пропускать через себя, что является заменой "существования в истории", когда имеющийся там смысл сам проницает тебя, чем, кстати говоря, уравнивается мыслящий и не-мыслящий. Но смысл истории, если он проницает большинство не-мыслящих, начинает терять напряжение и потихоньку пропадает. Смысл (мысль) необходимо держать3. Последняя фраза опять отсылает к эссе Пятигорского о Мамардашвили. Что же до того, что "пропускать смыслы через себя" можно лишь "замерев", то чем это не поза ницшевского часового?
3. О СМЫСЛЕ ИСТОРИИ
Под "смыслом истории" нельзя понимать детерминированность или целеполагание, т.е. "почему?" и "зачем?". Ибо считать, что бывают эпохи, когда непонятно, "зачем то-то (все)" или "почему то-то (все)", и эпохи, когда это понятно, – по крайней мере, пошло. "Смысл истории" – это когда историю человек может "осмыслить". Эпохи, когда нет смысла, человек осмыслить не может4.
Определить значение понятия "смысл истории" в данном случае очень трудно. Нечто похожее Шпенглер называл "судьбой". "Судьба" включает в себя и детерминированность и целеполагание, но не является ни тем, ни другим. "Судьба" – ни "почему?", ни "зачем?". Скорее, "судьба" (смысл истории) – это "как?". "Как?" соединяет "почему?" и "зачем?" на основе чего-то такого, что рационально понять, помыслить нельзя. Наверное, можно постигнуть интуитивно (Божий Промысел?). Поэтому помыслить "смысл истории" можно так: собственно "помыслить" и, одновременно, "интуитивно постигнуть". "Смысл истории" создает напряженность обязательности того, что происходит в эту эпоху. А в "контексте" обязательность исчезает, события становятся взаимозаменяемыми, факты можно свободно переиначивать, просто забывать, без всякого ущерба для содержания эпохи. Врагов можно представить друзьями и наоборот. С этой точки зрения любопытен следующий разговор юных героев "Философии одного переулка". Роберт утверждает, что война СССР с Германией неизбежна (разговор происходит в конце 30-х гг.), а Гарик заявляет, что "войны с Германией не будет, но будет война с Японией и что японцы после Китая займут всю Россию (кроме Кавказа, который займут англичане, и Южной России с Одессой, которая достанется французам). Москву японцы займут тоже..." События необязательны, враги легко меняются местами – вот характеристика эпохи контекста; по Пятигорскому, таковы 30-е гг.
Итак, "смысл", сообщавший обязательность ("судьба"), исчез, и остались "смыслы", которые следует "пропускать через себя". То есть в такую эпоху на вопрос "как все это происходит?" отвечают не "так" (что характерно для исторической эпохи), а "так, так и так, и так, и так еще". Или – "не знаю". По кодексу чести Пятигорского, только первая позиция честная и мужественная: "...жалкие люди, наделенные только упрямством и жаждой действия, но полностью лишенные... силы сознания. А у кого нет силы, тот обречен на слабость. А слабость жестока и лжива. О честности здесь и говорить нечего", – говорит Дедушка из "Философии..."; и говорит как раз о тех, кто отвечает "не знаю, как". Сила сознания велика как раз у тех самых ницшевских часовых (читай: любимых героев прозы Пятигорского).
В продолжение рассуждения о "судьбе", "смысле истории", о "как?", "почему?" и "зачем?" можно вспомнить рассказ Борхеса "Deutsсhes Requiem". "Немецкий реквием" – это монолог некоего "культурного фашиста", монолог предсмертный, ибо героя должны наутро расстрелять за совершенные им зверства. Судьба его – Отто Дитриха цур Линде – воплощение шпенглеровского понятия "судьба". В монологе излагается жизнь человека в "историческую эпоху", жизнь, проницаемая "смыслом истории". Отто Дитрих цур Линде говорит не о "почему?" и не о "зачем?", он говорит, "как" погиб сам и погибла Германия. Вот несколько цитат: "Я не мечтаю о прощении, поскольку не чувствую за собой вины5, – я всего лишь хочу быть понят. Тот, кто сумеет услышать меня, поймет историю Германии и будущее мира". "Никто... не смог бы существовать, никто не сумел бы выпить воды или отломить хлеба, не будь всякий наш шаг оправдан". "Мир погибал от засилия евреев и порожденного ими недуга – веры в Христа; мы привили ему беспощадность и веру в меч. Теперь этот меч обратился против нас, и мы подобны искуснику, соткавшему лабиринт и обреченному блуждать в нем до конца дней, или царю Давиду, осудившему чужака и обрекшему его на смерть, но вдруг в озарении слышащему: "Этот человек – ты". Многое нужно разрушить, чтобы воздвигнуть новый порядок; теперь мы знаем, что среди этого многого – наша Германия".
А вот образцовое описание уже не "исторической", а "контекстуальной" эпохи из эссе Пятигорского о Живаго: "Но что же, о Господи, делали они все вокруг Живаго! Почему все их поступки и слова были так бездарно бессмысленны? Зачем добрый и тонкий Николай Николаевич врал самому себе, что кое-как все может наладиться? Отчего обаятельная Лариса, сидя в идиотском сибирском городе, учила марксизм и между двумя пожарами (город горел) убеждала Живаго, что ее муж-садист самый честный человек на свете? И какой леший заставлял Самдевятова, образец "бывалого человека", пороть чушь про "историческую необходимость", когда уже много месяцев подряд единственной необходимостью была "необходимость выжить"? И откуда взялся "социалистический идеализм" командира партизан Ливерия, когда сам он уже давно превратился в истерика и наркомана?" Перед нами классический пример следующего процесса: "как?" распадается на "зачем?" и "почему?"; "смысл истории" распадается на "смыслы"; "история" превращается в "контекст".
Каких же людей порождает "контекстуальная эпоха"? Она (по Пятигорскому) может породить либо "замеревших, пропускающих смыслы через себя, незаинтересованно имитирующих жизнь" (как Ника из "Философии одного переулка"), – состояние высшего класса и тех (большинства), кто жил "как бы одновременно на двух несводимых друг к другу уровнях – мироощущения и мировоззрения. На уровне мироощущения они были великими познавателями и трансформаторами вещей, образов и понятий. Их конкретный чувственный опыт был уникален, потому что уникален был материал. На уровне мировоззрения они были создателями концепций. Чаще – их соавторами; "авторы" не занимались ни искусством, ни наукой. Концепций, объясняющих другим людям природу и цели работы ученых и артистов". (А.Пятигорский, "Пастернак и доктор Живаго". Интересно, что эта пара стоит в заглавии эссе: Живаго – человек первого типа, Пастернак – второго6). Ярким примером второго типа людей "контекстуальной эпохи" была Лидия Яковлевна Гинзбург)7. В следующем поколении людей "второго типа" мировоззрение перемещалось в область бессознательного (прошу прощения за понятийную несуразность, но иначе не скажешь) и проявлялось в безудержной профессиональной активности. В "Философии одного переулка" таков Роберт – юный фанат "артиллерийской карьеры".
4. ОПРОВЕРЖЕНИЕ ВЫШЕСКАЗАННОГО
...Ибо любая история должна быть прошлым, и чем более она – прошлое, тем лучше и для ее особенностей как истории и для рассказчика, который бормочет свои заклинания над прошедшими временами...
|
Теперь же – рассуждение, которое (при определенной исходной точке и направлении интерпретации) может опровергнуть все вышесказанное. Зададимся двумя вопросами:
– Что должен делать мыслящий человек в "историческую эпоху", т.е. в эпоху, "имеющую смысл"?
– Бывают ли вообще "исторические эпохи" для столь буддически настроенных людей, как Александр Пятигорский?
Что касается первого – "не знаю". Ведь нельзя же считать серьезной моделью поведения жизнь того самого Отто Дитриха цур Линде! Его судьба подозрительно напоминает иллюстрацию к следующей мысли Шпенглера: "Дабы наложить на мир форму своей воли, фаустовский человек жертвует самим собой". Только борхесовский герой считает, что это вся Германия жертвует собой, на самом деле собой (как человеком, своей душой) жертвует он сам (в чем перекличка с другой борхесовской новеллой "Три версии предательства Иуды" и далее – с его же "Темой предателя и героя"). Так что же? Что должен делать мудрый человек в историческую эпоху? Потреблять "легкий наркотик коллективных действий"? Предаваться (в духе Вяч. Иванова) восторгам осознания единого коллективного смысла? Вряд ли. О "кошмаре истории" говорит Стивен Дедалус, далекий прототип как Симора Гласса, так и Н.И.Ардатовского. "Конца истории" просит, взыскует и Блаженный Августин, и Фрэнсис Фукуяма. Мудрый не может жалеть об уходе смысла из "истории" и превращении ее в "контекст". Это кокетство. Другое дело – есть ли для мудрого человека история вообще. Так мы переходим ко второму вопросу.
Не раздражали ли Вас пухлые тома со следующими заглавиями – "Смысл истории", "Постижение истории"? Не похожи ли они на гигантские полуторалитровые пластиковые бутылки с кошмарного вкуса лимонадом? Не гипсовые ли это модели египетских пирамид? Быть может, я ошибаюсь, но еще ни один мыслящий человек (по Пятигорскому) не определил своей эпохи как "исторической". "Смысл" был, но он был в других, ранних эпохах; в каких же – все зависело от вкуса, настроения, склонностей говорящего. В противовес тому, что было сказано в главке "О смысле истории", можно сформулировать так: не появившийся вдруг "смысл" превращает данную эпоху в "историческую" (и тем самым наделяет мыслящих людей этой эпохи правом одаривать смыслом другие, по их выбору), а наоборот: мыслящий любой эпохи может, по своему выбору, одаривать (наполнять) смыслом любую другую предыдущую эпоху, но только не свою. Если он наполняет (вернее, считает, что наполняет) смыслом свою эпоху, как Отто Дитрих цур Линде, то он не мыслящий человек, ибо, как уже приходилось говорить, он подменяет внутреннее внешним. Он не мыслит, он – желает.
Наполнение какой-либо предыдущей эпохи смыслом – это, как сказал бы Чаадаев, ретроспективная утопия. Мы же скажем – это великий человеческий соблазн. Трудно найти не поддавшихся ему: Честертон говорит о средневековом Лондоне "small & clean"; Леонардо да Винчи – об Афинах; Яков Гордин и компания – о "пушкинской эпохе"; Атос считает себя (сотоварищи) пигмеем по сравнению с людьми XVI в., что не мешает ему 20 лет спустя считать гигантом уже умершего Ришелье. Главное, что он (Ришелье) уже умер. Можно даже сказать, что все вышеперечисленные тоскуют по этим эпохам – и наделение их (эпох) смыслом есть форма тоски не по прошлому, а по самому смыслу, которого "здесь и сейчас" никогда нет. Смысл может быть в прошлом, ибо прошлое, какую-либо эпоху, можно осмыслить как целое; современность же – никогда.
Уксус тоски – это перестоявшееся вино надежды. Человек не может не надеяться на смысл, а отчаявшись надеяться, не тосковать по нему. Именно поэтому ницшевский часовой остался на посту.
1 "В данном случае для философского мышления очень важно, я думаю, забвение каких-то вещей, а не отрицание их" (из интервью с А.Пятигорским).
2 Где важные для автора мысли изложены прямо.
3 "Пропускать смыслы через себя" есть, прежде всего, их находить и, лишь затем, пропускать. "Быть проницаемым смыслом (истории)" – это когда смысл тебя пропускает через себя, а ты держишь, фиксируешь, как это происходит.
4 ""...Да и как можно понять то, что само себя не понимает?" – как сказал бы Мераб Мамардашвили", – пишет Пятигорский в "Философии одного переулка".
5 Отсутствие чувства вины здесь очень важно. "Как?", "смысл истории" не может быть "хорошим", "плохим"; он просто есть и потому вне "вины". Сходным образом высказался и Пятигорский: "Для философа не может быть дурного знания или вредного мышления, или он не философ". Переиначивая эту фразу, можно сказать так: "Смысл истории не может быть дурным или вредным. Или он не смысл".
6 Здесь не говорится о 99% людей того времени. О них ничего нельзя сказать. Их нельзя понять: помните? – "как можно понять то, что само себя не понимает?"
7 На этом месте можно было бы сделать пространное отступление о Санкт-Петербурге – городе, из которого ушел смысл, и о некоторых жителях этого города в "обессмысленные 20-30-е гг.": о Лидии Гинзбург, Константине Вагинове, Якове Друскине, Данииле Хармсе. И о "предтече" их – Михаиле Кузмине. Кстати, Кузмин в Петербурге был приезжим, а это обстоятельство весьма важно для Пятигорского, в эссе о Живаго он специально отмечает, что Гурджиев в Москве был приезжим.
Продолжение книги "Профили и ситуации"
|