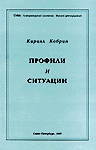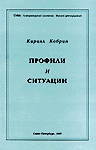Если верить Илье Пригожину, то все мы несемся (как бы) по железной дороге, а те ветки, которые поезд проскакивает, звеня ложечками в стаканах, те нереализованные потенциальности являются предметом литературы и изящных искусств. Именно в слове, в звуке и т. д. они воплощаются, производя иллюзию, будто состав свернул как раз сюда. Если верить стилизованным под индейцев басмачам (душманам?) из "Белого солнца пустыни", то маленькие причины имеют большие последствия. Именно последствия скромной провинциальной конференции с дурацким названием "Современная литература и филология" навеяли мне этот макабрический сюжет.
Итак, сначала была конференция. Неискушенность устроителей собрала в скромных, но строгих ex-комсомольских апартаментах столь гремучую смесь участников, что Натура, пыхтя от невиданной наглости нижегородских неофитов, даже не вмешалась и не произвела положенного взрыва. Питерские неоклассики были, как и подобает им, сдержанны, ироничны, почти корректны и полны чувства собственного достоинства, невнятные мальчики из Литинститута несли положенную им ахинею, герои "поколения дворников и сторожей" выражались (по настроению) то наукообразно, то по-домашнему, но и в том, и в другом случае весьма безответственно; наконец, пожилая переводчица с английского раскрыла-таки авторство всех творений псевдо-Шекспира. Интересы гостей были параллельны не в смысле схожести, а в смысле Евклида: они не пересекались. Поменяв геометрию на тригонометрию, скажем, что эти интересы лежали в разных плоскостях.
Но на каждого Евклида найдется свой Лобачевский, тем более, что действие происходило в городе, где последний оставил неизгладимый след в виде своего имени в названии местного университета. Участница из небольшого южнорусского поселения прочитала доклад со (ставшим уже почти знаменитым) заглавием "Слово лишнее как таковое" и пугающим эпиграфом из авангардиста А.Чичерина: "Слово – болезнь язва рак который губил и губит поэтов и неизлечимо пятит поэзию к гибели к разложению". Так мотив гниения, метастазов, умирания зазвучит в первый раз в нашем сюжете.
На пару десятков минут слушатели как бы попали в атмосферу столь любезного советским статистикам тысяча девятьсот тринадцатого года. Кажется, был даже брошен стул. Параллельные пересеклись, плоскости столкнулись на миг, чтобы тем сильнее разбежаться в разные стороны. Слово пожалели почти все. Похихикали, поежились и, казалось, забыли. Впрочем, нет. В повторном выступлении антивербалистки была (опять-таки, кажется) брошена следующая (вторая) фраза, подхватившая некромотив: "Да, Мандельштам, может быть, был хороший поэт, но сейчас это все мертво".
Видимо, образ умирающего, разлагающегося Слова, по которому червяками ползают тире, запятые и прочие знаки препинания; Слова, которое своим гнилостным дыханием поражает Поэзию, так взволновал некоторых участников (в т.ч. и автора концепции), что все несказанное в бывшем нижегородском обкоме (ли?) стало выплывать, прорываться на поверхность в переписке, публицистике и т.д.
Проскочив (по Пригожину) железнодорожную ветку, все бросились моделировать несостоявшийся консилиум над умирающим (или симулирующим?)1 Словом. Два-три намека всплыли в переписке (кажется, что-то об "омертвевших формах литературы", но мы-то знаем, о чем тут речь!). Один из главных классиков среди неоклассиков даже изменил своей неоклассической сдержанности и обрушил на голову бедной южнорусской авангардистки гневную инвективу2, видимо, наспех составленную, а потому банальную – и слова в ней действительно были "чуть тепленькие, трупцом попахивающие". Меж тем словесно-онкологический мотив усилился, стал звучать как-то глубже и основательнее, чем обсуждение вопроса в системе "сам дурак". Я, в свою очередь, с удовольствием следил за развитием событий. "Не так все просто, – думал я, – постой, ты увидишь кое-что поинтересней". И увидел. Вернее, прочитал.
Наконец-таки (лишь ко второму отделению, запыхавшись, расталкивая зевак) появляется главный герой нашего текста – Алексей Пурин3, прекрасный питерский поэт и эссеист. Так вот, в "Искусстве Ленинграда"4 появилось его эссе "Тот Август". Трупы5, тризны, поминки и проч. переполняют этот элегантный текст. Трактуется "Концерт на вокзале" Мандельштама: возникает "элизиум туманный", затем, по ассоциации, Павловск, Царскосельский вокзал в Петербурге, Иннокентий Анненский, умерший на ступенях этого вокзала, "милая тень" Анненского, август 1921 г.6, смерть Гумилева и Блока. Именно Блок является центром этого макабрического рассуждения. Блок – "математический итог XIX века". С Блока русская поэзия, по мнению автора, окончательно разбежалась по "европейской" (благородной, смысловой, в общем, хорошей) и "азиатской" (алхимической, тайнописной, герметической, иррациональной, грозящей вырождением, распадом) дорожкам. Сам Блок был последним, совмещавшим обе возможности, но он не передал, не мог передать этого дара другим. Почему? Да потому, что он "мертвец", "носферату", "гальванизированная мумия", "розовощекий лирический вампир". Достаточно жуткий список (прибавим еще кузминские слова: "Как изменился Блок. Как страшно и какой дух тления").
Прочитав статью Пурина, трудно отделаться от какого-то навязчивого, нет, не мотива, интонации, вроде бы посторонней, но ужасно знакомой. Конечно, конечно, это она – "болезнь язва рак... к гибели... к разложению". "Вот так, – подумал я, – конференция. Прорывается". И действительно, совершим небольшую подмену: Слово – мертвец, носферату, гальванизированная мумия, розовощекий вампир, какой дух тления. Рак язва болезнь. А.Чичерин не постыдился бы таких деклараций. Мотив болезни, смерти Слова проникает, располагается в чужих текстах, и автор бессознательно подменяет одно другим: ведь это не Блок какой-нибудь, а Слово совмещало все потенциальные возможности русской поэзии. Но... состав тронулся, ложечки зазвенели – и обиженные пассажиры грустно смотрят на оставшиеся позади ветки. А на этих ветках, в тупиках, ржавеют километры невоплощенных строк.
Между тем прошло полтора года. Доклад "Слово лишнее как таковое" появился на страницах некоего провинциального издания. И вновь: шум, стенания оскорбленной невинности, запланированное возмущение. Образ подыхающего Слова продолжал провоцировать – но полированные реакции уже были неинтересны. Оставалось ждать, как ждал Шерлок Холмс знаков тайной активности преступной организации профессора Мориарти. Уверенный, что мотив-бацилла вновь высунет на свет свою рогатую голову, я не ошибся, но радость охотника была вдвойне сильна, ибо это произошло не где-нибудь, а в статье все того же Алексея Пурина7.
Повод ее – дежурный: борьба с... как бы это сказать... ну, с авангардом, что ли. Или, там, с постмодернизмом. Или с модернизмом. Черт их разберет... Статья (естественно, для Пурина) написана стильно; поверженный соперник оказывается на поверку тряпичной куклой, дурацкой бессмысленной татарской куклой. Лежачего не бьют, и элегантный энглизированный боксер неспешно удаляется, оставляя следы – многоточия. Но речь не об этом. Вообразите, с каким трепетом я наткнулся на фразу, приведенную в эпиграфе к моим сумбурным заметкам: "Слово, отрезанное от адресата и адресанта, – труп". Блок, за ненадобностью, оставлен гнить спокойно, подмены больше не нужны, мотив становится все яснее. Автор явно чисто автоматически, без особой нужды, пишет "Бог" и "Всевышний" с большой буквы: какой уж тут Бог, какое уж тут "ибо было слово, и у Бога / было слово, слово было Бог", когда это самое Слово (если без адресата и адресанта) – труп8; труп же, как известно, является лишним как таковым. Пурин, правда, не сдается, он проявляет "метафизическое честолюбие часового на забытой позиции": война кончилась, все, кроме него, разошлись по домам. Ему все кажется, что если повторять, повторять, повторять все время это обезбоженное слово, то оно, конечно, найдет адресата, а значит... "отдаст душу". Пусть так, но в момент произношения оно будет жить: "Произнося слово, мы наделяем его душой – частью нашего мышления; принятое тем, кому адресовано сообщение, оно умирает, отдает душу (курсив автора. – К.К.)". Мотив набрал силу и начинается уже, просто-напросто, данс макабр.
И Пурин вновь, теперь уже как поэт, возвращается к этой теме. Цикл стихов "Нижегородские ахи" посвящен... да-да, именно той конференции, именно тому выступлению. Эпиграф... отгадайте... именно! – "Слово лишнее как таковое"9. Нижегородский цикл – отчаянная попытка вернуть, воплотить профуканную потенциальную возможность существования здорового, полного сил Слова. Поэтому цикл называется "Нижегородские ахи"; так вот, ахнув, роняет зазевавшийся турист зонтик или кошелек в Рейхенбахский водопад10. Ах! и нет Слова... Пурин же пытается возразить, возразить не фразой, но примером: Слово здесь, оно вовсе не лишнее! Наоборот, оно делает нелишним все прочее: город ("где Ока на Волгу / наплывает веком слепой метели"), кремлевский холм ("лежебока-колобок"), салат в ресторане ("поле Куликово"), милиционеров ("бабьи полушубки, / ремешки и бляшки, мех..."). Т.е. слово создает вещи, давая им имена; имена воплощаются в предметы, людей; последние обрастают объемом и подробностями, как герой Пруста, просыпаются в темной комнате, и память возвращается к ним толчками, внезапными приливами; среди хрипа и свиста культурного эфира выплывают Крученых11 и Гомер, Кузмин12 и Анненский13, Горький и Томас Манн. И вот по улицам купеческого города ("из бывших") не метель, не хлопья снега спешат на синем фоне неба, это рвется, рвется в эфир, в память, на свет одинокого фонаря Логос, Слово, стремится успеть, дать вспомнить все, что некогда было в нем заключено, перед тем, как кануть в никуда. Да, именно кануть, иначе как объяснить вот это: "Слово / так люблю, что колет под ребро". Может, я не прав, но так любят безнадежно больных.
1 Может, оно и впрямь симулирует, "косит", как косят от армии (прикидываясь то плоскостопым, то сумасшедшим) хитрые призывники. От кого тогда или от чего косит Слово?
2 Желающие могут прочитать эту статью; она опубликована в "Литературной газете" где-то летом 1991 г.
3 Само собой, участник той конференции.
4 Пора перестать делать вид, будто я что-то скрываю: номер 8, год 1991, сдано в набор 10.04.91, подписано в печать 16.12.91, формат издания... и т.д.
5 О которые даже спотыкаются, чем не триллер.
6 И конечно, август 1921 г. есть Тот Август – египетский бог мудрости, счета и письма; писец, записывающий дни смерти людей, взвешивающий сердца умерших, охраняющий каждого покойника и ведущий его в Царство Мертвых.
7 "Литературная газета", 16.09.92. – "Свобода от свободы, или Стихотворство на современном этапе".
8 "А вот и гроб. Его тащат вспотевшие люди без шапок и с рыжими тоже вспотевшими воротниками, а другие возле месят калошами грязь и хрипло поют "Свя-атый бо-оже..."". Это написал Иннокентий Анненский. Кстати, именно о его труп споткнулся Мандельштам в эссе Пурина "Тот Август".
9 Здесь я не буду вдаваться в несомненные достоинства всего цикла. Выдержанный в жемчужно-серых, холодно-розовых, жирно-белых тонах, он, объективно говоря, единственное, что как-то оправдывает всю эту возню вокруг той ничтожной конференции. К сожалению, сейчас нас интересует другое.
10 Парочка Холмс – Мориарти начинает терроризировать этот текст.
11 С неизбежным, как Маркс – Энгельс – Ленин, трио "дыр, бул, щыл". Можно подумать, что бедный футурист ничего более не написал. Так Вольтер, чьи труды могут заполонить так называемую "большую комнату" моей квартиры, останется (да и уже остался) в памяти автором "Кандида", а неудачливый романист Шервуд Андерсон – автором сборничка новелл "Уайнсбург, Огайо". Возвращаясь к Крученыху – почему не более барабанное "Дред Обрядык Дрададак!!!"?
12 "Никаких поджарок там и булок, / никаких шабли". Аллюзию на опять-таки хрестоматийное стихотворение Кузмина расшифровывать не надо. Отметим лишь, что хитрюга-речь сыграла здесь роль двойного агента – работая на автора, подставила его. В интонации этой фразы слышится: "Ни тебе аванса, ни пивной..." – из эпитафии известно кого известно кому. Кстати, Есенин тоже присутствует в "Нижегородских ахах" – "первый космонавт из Англетера" – и автор к нему, гипотетическому любимцу проблематичных ("яблочный румянец, детский смех") милиционеров, симпатий не испытывает. Не симпатизируя нелюбимому Маяковским Есенину, Пурин попадает в интонацию стихотворения Владимира Владимировича, именно Есенину, вернее, его смерти посвященного. Но автор (и это ясно) должен быть враждебен и Маяковскому. Вот он, неверный свет "речи-свечи", от которой шарахаются тени по стенам. И потом. Как же это "никаких поджарок"? Отвратительная "поджарка" есть главное блюдо нижегородского общепита.
13 Отметим варваризированные "сандаловые шкатулки" в правах "кипарисового ларца".
Продолжение книги "Профили и ситуации"
|