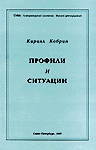
[Статьи и эссе.]
Urbi: Литературный альманах. Выпуск двенадцатый.
СПб.: ЗАО "Атос", 1997.
ISBN 5-7183-0132-8
с.8-11.
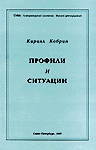
|
[Статьи и эссе.] Urbi: Литературный альманах. Выпуск двенадцатый. СПб.: ЗАО "Атос", 1997. ISBN 5-7183-0132-8 с.8-11. |
|
Нужно ли писать пухлые литературоведческие тома, мягко укоряя поэта X то в прямых, то в скрытых заимствованиях у поэта Y? Стоит ли читать эти тома, сдержанно возмущаясь нескромностью филолога Z, его топорными принципами и рубаночными методами? Полноте! Есть ли вообще смысл штудировать тексты самих поэтов X и Y, прозаиков A, B, C, драматургов P, Q, R? Есть? Нет? Нет. Достаточно знать их фамилии. Превратить A в Иванова, X – в Кузнецова, Q – в Кара-Мурзу. Фамилии русских литераторов часто скажут больше о (проштемпелюемся бинарным учпедгизовским штампом) "жизни и творчестве", чем история этой жизни и знакомство с этим творчеством. Вот вам род викторины. "Веселое имя?" – спросим мы для разминки. В ответ в нас пульнут Пушкиным. Хорошо, хорошо, попробуем тактическую хитрость. "Державный соловей суворовского генштаба?" – кивнем мы в сторону известного ныне патриотического автоматчика в трусах. Не клюнули. Сказали: "Державин!" Ладно, прикинемся дурачками: "Автор объемной эпопеи?" – "Толстой!" – чуть не плюнули в лицо. Ну, получайте: "Кукловод патриотических драм?" – "Кукольник!" Еще удар: "Автор водянисто-пухлых романсов?" – "Апухтин!" Теперь апперкот: "Счастливая проходная пешка?" – "Горький!"
Или в прозе (о себе в третьем лице): "Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен..." Читая письма Батюшкова, чувствуешь чуть ли не фанфаронство в первой части цитированной фразы, зато вторая часть – ах, батюшки! как верна! "Я в Риге остался за болезнию на несколько дней" (1807 г., Гнедичу); "здоровье мое на нитке" (1809 г., ему же); "я теперь, сидя с сильной головной болью..." (1810 г., Вяземскому); "благодарю и кашель, и насморк, и лихорадку, которые доставили мне вашу записку, исполненную филантропии... вчера был в лихорадке, которую прервал чаем и ромом" (1811 г., Е.Г.Пушкиной); "насилу и теперь отдохнул во время моей болезни" (1814 г., Вяземскому)1; наконец: "Я писал к тебе с приезда, что я сделался нездоров сыпью, которую благопристойность не позволяет назвать чесоткою..." (1814 г., сестре Александре) и так далее. Что же окружающие? Жалели? Ехидничали? "И теперь вижу его субтильную фигурку", – каркает реакционный Греч. "Малютка Батюшков, – нараспев декламирует благородный хлопотун Жуковский и (отдадим балладнику должное) добавляет, – гигант по дарованию". Другой приятель цинично уточняет батюшковский рост: "Не более двух аршин". Наконец, беспардонные арзамасцы окрестили поэта Ахиллом, в смысле: "Ахилл – Ах! хил!"
Это о Батюшкове с его чесоткой, долгами и депрессиями! Вообще, Батюшкову изрядно досталось от "нашего всего". Читая "Опыты в стихах и прозе", Пушкин, по своему обыкновению, делает пометы на полях. Какое счастье, что их никогда не увидел автор! "Как ландыш под серпом убийственным жнеца", – пишет Батюшков. "Не под серпом, а под косою... Ландыш растет на лугах и в рощах, не на пашнях засеянных", – строго одергивает его ботаник и агроном Пушкин. "Умирающего Тасса" Александр Сергеевич обзывает "умирающим Василием Львовичем". Пометки "вяло", "слабо", "дурно" птичками порхают по полям книги. Наконец, издевательский итог: "Охота печатать всякий вздор! Батюшков не виноват"2. Еще более насолил Пушкин Батюшкову после своей смерти. Он стал его потихоньку съедать. Начало сей батюшкофагии положил Белинский: "Это еще не пушкинские стихи, но после них уже надо было ожидать не других каких-нибудь, а пушкинских". Мандельштам сослепу поразил слабое сердце автора первых в истории русской словесности записных книжек, назвав Батюшкова "записной книжкой нерожденного Пушкина". С каждым годом Батюшков все более превращался в этакую грустную луну, ретроспективно отражавшую свет "солнца русской поэзии". В год своего двухсотлетнего юбилея наш герой уже окончательно перешел из категории звезд в категорию сателлитов. Вот что пишет об этом Лидия Гинзбург: "200-летие со дня рождения Батюшкова. Маленькая газетная заметка. Она начинается: "Предшественник Пушкина. Духом свободомыслия было проникнуто творчество великого русского поэта Константина Николаевича Батюшкова". Здесь в тринадцати словах сосредоточена работа по меньшей мере трех сильно действующих социальных механизмов. Во-первых, привычка к чинопочитанию. Пушкин самый главный начальник, и нужно как можно больше ему кланяться. Батюшков сам по себе не релевантен, он предшественник. Во-вторых, привычка к политическому передергиванию. В Батюшкове, для вящего славословия, крупным планом показано вольнолюбие. В-третьих, привычка (со сталинских времен) к гигантомании. Батюшков – поэт пленительный, но великим его никогда не называли3 и это к нему как-то совсем не подходит". Не везло, фатально не везло этому человеку. Не стоит входить во все его житейские обстоятельства – хроническое безденежье, ссоры с отцом, какие-то недополученные чины, кресты. Несчастливая любовь. Жестокая неблагодарность – нежно любимый Батюшковым Никита Муравьев, его кузен и воспитанник, даже не разрезал первый том "Опытов" до конца4. Однако везение есть вопрос удачливости. Батюшкова ожидало нечто по ту сторону везения и невезения – трагедия. Нельзя без внутреннего содрогания читать следующее письмо:
О каком везении-невезении, крестах-чинах можно говорить, прочтя эту страшную, безумную фразу, обращенную к мертвому Байрону: "Молитесь о невесте моей"5? Константин Батюшков сошел с ума. Как любимый им Тасс6. Трагедия выходит за рамки фамилии, здесь уже не всплеснешь руками, не заахаешь: "Батюшки!" Здесь прилично молчание.
Батюшков – счастливчик. Он сам написал себе эпитафию. И какую! 1 Кстати, именно в одном из писем Вяземскому прозвучала, аранжированная пока простодушной болтовней, увертюра чудовищной темы батюшковской судьбы: "Я с ума еще не сошел, милый друг, но беспорядок моей головы приметен не одному тебе..." (1813 г.) |
| Вернуться на главную страницу | Вернуться на страницу "Тексты и авторы" |
"Urbi" | Кирилл Кобрин | "Профили и ситуации" |
| Copyright © 2005 Кирилл Кобрин Публикация в Интернете © 1998 Союз молодых литераторов "Вавилон"; © 2006 Проект Арго E-mail: info@vavilon.ru |