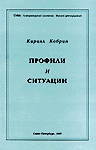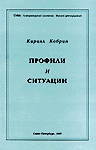Канцлер П.П.Шафиров сказал о Петре I следующее: "Сочинил из России самую метаморфозис, или претворение" ("Рассуждение о причинах Свейской войны", 1717). Почти двести лет спустя, будто поймав неизвестного ему Шафирова на двусмысленном глаголе "сочинил", Освальд Шпенглер отпарировал: "Одно только слово "Европа" с возникшим под его влиянием комплексом представлений связало в нашем историческом сознании Россию с Западом в некое ничем не оправданное единство. Здесь, в культуре воспитанных на книгах читателей, голая абстракция привела к чудовищным последствиям. Олицетворенные в Петре Великом, они на целые столетия извратили историческую тенденцию примитивной народной массы..." ("Закат Европы", т.1). Во втором томе своего удивительного труда Шпенглер вводит понятие "псевдоморфоза" – явную антитезу шафировскому "метаморфозис" и подкрепляет им свои исторические (или эстетические?) претензии к сыну Алексея Михайловича Романова; вот образчик этого блестящего и неубедительного рассуждения: "Так возникают поддельные формы, кристаллы, внутренняя структура которых противоречит их внешнему строению, один вид минерала с внешними чертами другого. Минералоги именуют это псевдоморфозой". Здесь будет уместно слово "имитация", тем более, что Шпенглер сделал (как сказал бы Шафиров, "сочинил") "имитацию" основой нелюбимого им, поверхностного, необязательного "украшения" – в противовес органическому "орнаменту". Получается, что Петр Великий "сочинил", "имитировал", "придумал", "украсил" Россию Петербургом, короткими кафтанами, газетами, флотом, табаком, театром, Сенатом, промышленностью, Академией, выходом в Балтийское море и т.д. Прорубил стрельчатое окно в курной избе.
Если так, то Петр – настоящий художник. Его имитация не была скучным второсортным подражательством. Его имитация сродни Аристотелеву "мимесису", он не создавал в Чухломе Голландию XVII в., он разыгрывал на русских подмостках некий европейский театр, в париках и шпагах, имитацию возможного, вернее того, что сам Петр считал возможным. Западничество Петра было не ретроспективным, а перспективным. "Говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости", – замечает в "Поэтике" Аристотель.
Так, из гипотетической беседы российского бюрократа, немецкого эстета и воспитателя македонского наследника, возникает тема петровской и постпетровской российской истории как спектакля в европейском духе, или шире – как театра. "В истории театра со времен Аристотеля вплоть до наших дней требование имитации все время возобновляется" (Патрис Пави). Поменяем кое-какие слова в этой формуле и получим искомое: "В истории России со времен Петра I вплоть до наших дней требование имитации все время возобновляется". Можно поклясться в этом, положив руку на том переписки Екатерины II с Вольтером. Если не найдете книги, дойдите, доедьте, долетите до Петербурга, до Исаакиевской площади, до самого Исаакиевского собора (не можете, купите открытку!): "На что похож Исаакиевский собор? На собор Св. Павла. Он не из первой, а из второй пары; он порождение полуреформации православия, начатой Никоном и завершенной Петром" (Алексей Пурин, "Большая Морская").
Вернемся, однако, к западническим реформам в России. Именно тишайший Алексей Михайлович робко, трепетно, деликатно подступался к ним: корабль "Орел" приказал построить, "полки иноземного строя" завел. Он же пытался и театр завести. "При дворе и высшем кругу развивается страсть к "комедийным действиям" – театральным зрелищам... Царь Алексей советовался об этом с духовником, который разрешил ему театральные зрелища, приводя в оправдания примеры византийских императоров", – сообщает Ключевский, а солидный двуглавый Брокгауз-Ефрон резюмирует: "В России театр на первых порах представлял собою явление, занесенное иностранцами. Начало его связано с именами царя Алексея Михайловича и боярина Матвеева. Театральное дело, заглохшее с кончиною Алексея Михайловича, было возобновлено Петром I. Прежде всего он обратил театр из придворного в народный, для всех "охотных смотрельщиков"". И как точно сказано, и не только о театре! Последний раз позволим себе воспользоваться вороватым приемом подстановки: "Реформы, заглохшие с кончиною Алексея Михайловича, были возобновлены Петром I". Да, и не упустить самого главного – "охотными смотрельщиками" своей революции Петр сделал весь народ, а многих и "охотными (и "неохотными") делальщиками".
Каков же был российский театр глазами "охотных смотрельщиков?"
Охота ли была его смотреть? Вот что пишет весьма охочий до театра зритель первой трети XIX в.:
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла – все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит. |
О, да, перед нами апофеоз театра, Театра с большой буквы! "Волшебный край!" – восклицает Пушкин и уточняет, кем это волшебство создается: "переимчивый Княжнин", Катенин, который "воскресил Корнеля гений величавый". Мотив театра – мотив переимчивости, мотив имитации, недаром цитированное перечисление завершается французом Дидло. Пушкинский Дидло, Дидро Екатерины II – какая разница! Все француз, все немец. Однако и в этом торжестве имитации уже дребезжат раздраженные нотки, и не только у мизантропичного тусовщика Онегина – его мизантропия патентованная, – но у самого автора:
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет? |
И вот Онегин легко сбегает вниз по лестнице, вон из театра (в правой руке – цилиндр, в левой, на отлете – трость, трепещут фалды фрака); вместе с ним вниз по социальной, сословной лестнице сбегает (или скатывается по перилам?) Пушкин; что он видит? –
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони... |
Это они – неохотные смотрельщики и делальщики; они есть, и бранью своей, и равнодушием подтачивают переимчивое здание ампирного имперского театра, сей визионерской мутации "Гранд Опера" и "Комеди Франсэз".
Тридцать с лишним лет спустя находится в России неохотный смотрельщик, который ретроспективно пытается потолкаться среди пушкинских кучеров, прикинуться своим среди них, отдать им свой заячий тулупчик, позаимствовать овчинный и, сохраняя голубую кровь и белые руки (иначе внутрь не пустят), глянуть кучерским глазом на волшебный край пушкинских богинь: "На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был прикреплен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками". Вот что увидел материализовавшийся в Наташу Ростову онегинский кучер. Вернее, граф Толстой, прикинувшийся кучером, прикинувшимся Наташей Ростовой. Шкловский, обманувшийся этой травестией в кубе, построил на бесконечных "досках", "картонах", "толстых девицах" и "панталонах на толстых ногах" целую теорию "остранения" (кстати, в оперу, скорее, завалились плотник с портным, и видят одни доски, доски, картоны, красные корсажи, белые юбки, шелковые белые платья, шелковые панталоны и проч.). Обманулся и Шпенглер, приняв графа за кучера: "Русский инстинкт с враждебностью, воплощенной в Толстом, Аксакове... очень верно и глубоко отмежевывает "Европу" от "Матушки России""1. Проходит еще пятьдесят лет. Представление продолжается. Имитация становится все тоньше, изысканнее – в России появляются свои "про́клятые поэты", свой суд присяжных, свои кантианцы и ницшеанцы, свои политические партии. Наконец, своя революция. Но самые чуткие зрители (и участники!) этого спектакля начинают испытывать усталость, тревогу, ощущение надвигающейся исчерпанности. Лучший русский театр – дягилевский – отъезжает в Париж и становится объектом уже западной имитации. Алексей Суворин пишет в "Дневнике" (1897 г.): "Мне хоть на пальцах гадать – брать театр или не брать. Если брать, наверное, еще тысяч 30 надо, но эта суета мне любезна и приятна. В театральной атмосфере что-то ядовитое, как в алкоголе или никотине". Действительно, алкоголь и никотин – яд, но яд "любезный и приятный". Он позволяет приятно проводить время, но сокращает жизнь. А жить остается совсем мало – Суворину десять лет, петровской империи – двадцать. Именно о грядущем конце петровской империи, петровского театра Осип Мандельштам написал в 1913 г. следующее стихотворение:
Летают Валкирии, поют смычки
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.
Уж занавес наглухо упасть готов,
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров...
"Карету такого-то!" – Разъезд. Конец. |
Что это? Не иначе, как минорное переложение роскошественной темы двадцать второй строфы главы первой "Евгения Онегина". Точнее, не минорное, а трагическое, даже апокалиптическое. У Пушкина "Еще амуры, черти, змеи / На сцене скачут и шумят"; у Мандельштама "Летают Валкирии, поют смычки / Громоздкая опера к концу идет". Легкомысленные амуры, черти, змеи и брутальные валкирии; аполлонические Моцарт, Доницетти и дионисийский (ушами Ницше) тяжеловесный, полный смутных предчувствий Вагнер. "Волшебная флейта" и "Гибель богов". Сам размер, такой распашной у Пушкина, приобретает какую-то отрывистую монотонность (если бывает "отрывистая монотонность", то вот она) у Мандельштама. Мандельштамовский занавес готов упасть "наглухо" (т.е. навсегда); его театралов "ждут" (а не "спят", как у Пушкина. Зачем ждут?) сербо-хорватские "гайдуки" вместо французистых лакеев; пушкинские зрители так по-человечески "сморкаются, кашляют, шикают, хлопают", у Мандельштама же соло на ладони в исполнении одного "глупца". Его извозчики не добродушно побранивают господ, а исполняют какой-то странный, жуткий танец у костров (впрочем, к извозчичьим пляскам мы еще вернемся). И вот занавес падает "наглухо". Разъезд. Конец.
Через пять лет, когда занавес действительно упал и представление завершилось, тему неизвестного ему стихотворения Мандельштама завершил Василий Розанов: "С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес.
– Представление окончилось.
Публика встала.
– Пора одевать шубы и возвращаться домой.
Оглянулись.
Но ни шуб, ни домов не оказалось".
Из розановского отрывка явствует, что Русская История не представлялась только на сцене. Сама сцена, сам театр, сами зрители, извозчики, лакеи, гайдуки, шубы и даже дома были составной частью спектакля русской истории послепетровского периода. Пьеса кончилась – и все растворилось в воздухе, только, пожалуй, гайдуки не растворились, а растащили барские шубы по родным деревням. Намечался новый театр.
"Извозчики пляшут вокруг костров" – вот начало нового театра, нового представления, взамен предыдущего. Валкирии еще летают, извозчики уже пляшут. Именно эти извозчичьи пляски принял Блок (и прочие "разумные" ваньки) за пляски половецкие, за скифские хороводы, за весну священную, за "русской Терпсихоры / Душой исполненный полет". Нацепив бутафорские ницшевские усы, натрахавшись до интересной бледности лица в разного рода ивановских башнях, экс-символисты стали гугниво гнусить о грядущих гуннах и намекать новым большевицким властям, что дионисийские обряды, лежавшие в основе театральных представлений, были в античности неотъемлемой частью государственных праздников. Аполлонический государственный театр, удачно сымитированный Петром, предполагалось заменить на дионисийский, "левый". Виляя накрашенными хвостиками, на свист сбежались футуристики. Вынырнул гениально-переимчивый Протей Мейерхольд. Метания бесприданниц стали неактуальными, ибо без приданого оказалась вся страна. Замуж Россию никто не брал, пропозиции можно было ждать лишь от революционного Китая, и вот Сергей Третьяков сочиняет, а Мейерхольд ставит пьесу "Рычи, Китай!". Театрально-государственная деятельность бурлит: один нарком, отягощенный эспаньолкой и пенсне, пишет исторические драмы. Другой, густо шевелюристый, но тоже в пенсне, сам актерствует на митингах, подражая актеру, играющему Дантона. Только вот Чацкий эмигрировал, Скалозуба в Крыму расстреляли, да Софья пошла в совбарышни. А так ничего. Взвилась, вроде бы, взвилась "душой исполненным полетом" русская Терпсихора; грянул страшный русский ренессанс. Но.
Но явился Сталин. Сталин был тем самым гайдуком, утащившим барскую шубу с растаявшего петровского театрального разъезда. Надев эту шубу, он стал изображать великого императора. Стал одевать взбунтовавшуюся, скинувшую одежду Россию в ложноклассические театры, дворцы культуры, юбилеи Пушкина, станции метро, книги о вкусной и здоровой пище, вассальные провинции. Станиславский победил Мейерхольда, иными словами – Сталин победил Троцкого. Родился театр в квадрате, театр в кубе, Театр-Театр, или Театр-Театр-Театр. Выразителями сей виктории стали вальяжные "крепостные мхатовские джентльмены" и актрисы – сановные содержанки. Это была имитация дореволюционной державности, дореволюционного театра, но ведь и сами они, в свою очередь, были имитацией, так что сталинскую эпоху можно счесть платоновским "симулякром", копией копии копии; копией, не имеющей отношения к оригиналу (действительно, что здесь оригинал?); самоценным образом.
Подданные сталинской империи – это узники в Платоновой пещере. Они сидят, закованные, спиной к свету, к свету Запада, к свету петербургского периода русской истории. На стене перед ними разыгрывается театр теней Станиславского: дикое чудище расположилось у светового оконца и пальцами, поросшими курчавыми волосами, отбрасывает на стену обакенбарденного (обенкендорфенного? см. фильм "Поэт и царь") Пушкина. Затаив дыхание, узники смотрят благородный фрачно-брючный спектакль. А потом людоед их съест.
(В связи с такого рода платоновской спекуляцией нелишне вспомнить нелюбовь самого Платона к изящным искусствам, в т.ч. к театру. Художник, по Платону, почти святотатец, копирующий то, чего сам не понимает. В третьей и десятой книгах его "Республики" философ определяет мимесис как копию копии, т.е. недоступной для художника идеи. Впрочем, Пушкин для нашего людоеда тоже недоступен. Людоед поэта симулирует. "Симуляция – это сам фантазм, то есть эффект работы симулякра как машины, дионисийской машины", – пишет Жиль Делез ("Платон и симулякр"). Вот мы с вами и вернулись к театру, ибо "Словарь античности" dixit: "В основе театральных представлений лежали культовые обряды, совершавшиеся во время праздников в честь бога Диониса".)
И станиславско-сталинский театр нашел своего певца.
У Бориса Пастернака есть странное стихотворение – "Вакханалия". Уже его название намекает на некие античные оргиастические обряды и, весьма косвенно (почему бы и нет?), на Дионисовы оргии. Внимательный читатель догадывается, что речь пойдет о театре. И действительно, стихотворение – о театре. Вернее, о Театре. "Мне хотелось, как всегда, сказать это все сразу в одном стихотворении", – писал о "Вакханалии" Пастернак. И сказал. Приметы сталинского Театра-Театра воссозданы точно и с воодушевлением. Вот, например, картинка из микояновской "Книги о вкусной и здоровой пище":
По соседству в столовой
Зелень, горы икры,
В сервировке лиловой
Семга, сельди, сыры.
И хрустенье салфеток,
И приправ острота,
И вино всех расцветок,
И всех водок сорта2. |
Или сам театральный подъезд, умело изъятый (с коррекцией технических деталей) у Пушкина и Мандельштама; с одной лишь разницей: у Пушкина спектакль в полном разгаре, у Мандельштама – вот-вот закончится (и заканчивается!); у Пастернака (кажется) – все впереди:
"Зимы", "зисы" и "татры",
Сдвинув полосы фар,
Подъезжают к театру
И слепят тротуар.
Затерявшись в метели,
Перекупщики мест
Осаждают без цели
Театральный подъезд.
Все идут вереницей,
Как сквозь строй алебард,
Торопясь протесниться
На "Марию Стюарт".
Молодежь по записке
Добывает билет
И великой артистке
Шлет горячий привет. |
Невыразимо пошлая роскошь обстановки советских театров (позолота, бархат, буфеты с коньяком, благородные подавальщицы биноклей, суровые администраторы с непременной орденской планкой на сером пиджаке, запах дешевой пудры и духов "Красная Москва", фонтанчики для питья в мраморных туалетах – всего не перечесть) и невыносимо роскошная пошлость самих постановок (с хорошо отрепетированной задушевностью) нашли полное свое воплощение в молодежи (бодрой! бодрой!), добывающей билет у того самого сурового администратора и материализующейся в виде бравого, непременно воздухоплавательного или морского, капитана в районе уборной той самой великой артистки: в руках (потных от счастья и волнения) буйный букет, в букете – записка, в записке – горячий привет.
Примеров множество – чего стоит нелепая история о некоем сердцееде и "разведенце" (в гл. роли Марк Бернес), который (как дотошно подсчитал автор) выпил шестнадцать рюмок коньяка и "ни в одном он глазу" (более того, известно, что "для первой же юбки / Он порвет повода, / И какие поступки / Совершит он тогда!"). Дело даже не в побочных сюжетных линиях, например, о старушках в есенинских шушунах, молящихся в церкви. Пастернак не был бы гениальным поэтом, если бы буквально не унюхал (со всей своей страстью к органике), что весь этот по-своему уютный советский имперский театр, эти государственные Дионисовы оргии, эта вакханалия – просто пшик, эфемерное и недолговечное сгущение пустоты, принявшее формы столов, бутылок, закусок, артисток, разведенцев, мачт, антенн, экскаваторов. Как и в мандельштамовском стихотворении, в "Вакханалии" спектакль заканчивается жутко:
Прошло ночное торжество.
Забыты шутки и проделки.
На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего. |
Именно последняя фраза своей могильной однозначностью, словно тряпка со школьной доски, стирает все, сказанное перед ней. Никто не помнит ничего.
Спустя тридцать четыре года после написания "Вакханалии", кончился еще один спектакль русской истории; растаял в воздухе еще один театр. Новые режиссеры ставят новые пьесы; новые – значит, будут новые райки, новые переимчивые Княжнины, новые лорнеты, новые кулисы, новые гайдуки и новые шубы. И все это – из воздуха. Помните? "Здесь, в культуре воспитанных на книгах читателей, голая абстракция..."
Россия – это человек между двумя, стоящими друг против друга зеркалами. Одно зеркало – будущее; другое – прошлое. Оптический эффект делает и прошлое, и будущее бесконечным. Человек одевает длиннополый кафтан и приклеивает окладистую бороду. В одном зеркале он видит бесконечных бояр, в другом – бесконечных солженицыных. Через некоторое время человек примеряет фрак: сзади – пушкины, впереди – гайдары. Человек лицедействует. Он имитирует историю.
Или наоборот. Два световых луча – с Запада и с Востока – создают при перекрещивании голографическое изображение. Это огромное изображение. Это – Россия. Но ткни его пальцем – почувствуешь, что рука твоя продырявила пустоту.
Кажется, и последняя моя метафора не совсем чиста. Борхес, страстный и кристально ясный Борхес (как сам аргентинец величал Шопенгауэра), пишет в одном из своих классических рассказов следующее: "Два человека ищут карандаш; первый находит и ничего не говорит; второй находит другой карандаш, не менее реальный, но более соответствующий его ожиданиям. Эти вторичные предметы называются "хрёнир", и они, хотя несколько менее изящны, зато более удобны... Любопытный факт: в "хрёнирах" второй и третьей степени – то есть "хренирах", производных от другого "хрёна", и "хрёнирах", производных от "хрёна" "хрёна", – отмечается усиление искажений исходного "хрёна"; "хрёниры" пятой степени почти подобны ему; "хрёниры" девятой степени можно спутать со второй; а в "хрёнирах" одиннадцатой степени наблюдается чистота линий, которой нет у оригиналов. Процесс тут периодический: в "хрёне" двенадцатой степени уже начинается ухудшение. Более удивителен и чист по форме, чем любой "хрён", иногда бывает "ур", – предмет, произведенный внушением, объект, извлеченный из небытия надеждой".
Вот, вот – надеждой.
1 Процитируем в примечании примечание русского переводчика Шпенглера – К.А.Свасьяна – к цитированной фразе: "Этот образец псевдоморфоза – чисто западная мысль, своеобразно имитирующая судьбу Поликратова перстня: она попала к Аксакову с Запада, от Жозефа де Местра и вернулась через Аксакова на Запад, к Шпенглеру..." Вот и Толстой рассаживал авокадо руссоизма среди русских березок.
2 Этот скупо-размашистый размер несколько пародийно представлен у Бродского: "Ни страны, ни погоста / не хочу выбирать. / На Васильевский остров / я приду умирать".