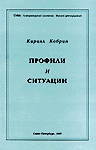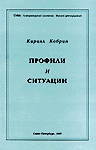Возьмем подзорную трубу. Вот она – тяжелая, тускло-желтая, кольчатая, похожая на бронзовую статую червя – ложится в ладонь, а вторую руку вытягивает вперед, будто для приветствия роскошного ландшафта, обустроенного по законам перспективы. В нашем случае, исторической. Значит – ретроспективы. Крутанем шершавое колесо настройки, наведем резкость. И вот. "И вот, в августе 1825 года, в приморской деревушке близ Брайтона появился иностранец, соединявший в своей осанке торжественность епископа с корректностью светской куклы". Иностранец ли? Похоже, ведь занят он сочинением письма, и, если мы всмотримся (растянув оптическую трубу на сто семьдесят лет) в эти ровные французские фразы, то распознаем послание не куда-нибудь, а домой: "В ту минуту, когда я пишу вам, я проживаю в деревенском доме, в коттедже, за несколько миль от Брайтона, на расстоянии двух ружейных выстрелов от морского берега... мой дом весь обвит плющом и виноградной лозою... розовый куст, поднимающийся до самой крыши, цветы которого раскачиваются в моем окне". А спустя почти тридцать лет наш состарившийся (но не обветшавший) путешественник пишет (уже по-русски) своему двоюродному племяннику следующее: "Мне бы хотелось, чтобы демон живописности дотолкнул тебя до Англии, там ты нашел бы, надеюсь, по крайней мере, что опустошения цивилизации не вполне еще завесили прелестный лик природы, разве пар, газ и электричество достигнули до того, что кверху дном взворотили эту привилегированную страну пейзажа". Сложим наше дальнозоркое орудие, спрячем в карман, достанем записную книжку и внесем туда все эти милые "дотолкнул", "завесили прелестный лик природы", "взворотили", "привилегированную страну пейзажа". Милые, потому что писал иностранец, но иностранец, коротко знакомый с русским языком. Не иностранец для жителей британского Брайтона (сочетание Britain and Byron), а иностранец для русского автора, писавшего о его появлении в оном Брайтоне.
О ком же речь? Конечно, о Чаадаеве. Но при чем здесь Чаадаев, и если при чем, то где непременные фразы вроде "воплощенное вето России", "строгий отвес к традиционному русскому мышлению", "плешивый лжепророк", "маленький аббатик", "но папа, папа!"? Где салонная стайка из гершензоновского общественно-политического птичника для научно-популярных интересующихся; где Хомяков с мур-, а Самарин с ермолкой; где Ермолов, наигрывающий грибоедовский вальс; где магнитофонные записи лекций Шевырева, Шеллинга, Грановского; наконец, где знаменитое сальное пятно от пушкинской головы? А очочки Вяземского? И если все вышеперечисленное будет, то при чем здесь Англия?
Вот Англия больше всех при чем. Наихрестоматийнейшая чаадаевская фраза (из "Апологии сумасшедшего") такова: "Есть разные способы любить свое отечество; например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова; и, без сомнения, было бы прискорбно для нас, если бы нам все еще приходилось любить места, где мы родились, на манер самоеда". Эта ключевая (для поедом едящих себя русских) формулировка выстроена Чаадаевым банально: очевидное "плохо" (Самоедия, читай: Россия) и очевидное "хорошо" (Англия); очевидность оппозиции для автора аксиоматична, приходится, правда, мимоходом пояснить: что такое "хорошо" и что такое "плохо". "Плохо" обозначено чуть подробнее – снег, юрта, жир; англичанин может гордиться чем угодно, всем: от Беды Достопочтенного до газового фонаря, перечислять сии предметы бессмысленно, назовем их так – "учреждения" и "цивилизация". А остров – "славным". Merry England! Кажется, в Чаадаеве заговорил истинный британец. Хотелось бы знать, давно ли.
Давно. Через сто лет после смерти Чаадаева другой оригинал (и тоже человек весьма специальный) написал: "В обиходе таких семей, как наша, была давняя склонность ко всему английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением (на первом слоге), а бабушка... говорила уже совсем по старинке: аглицки". Семейство, где воспитывались маленькие сироты Петя и Миша, то ли усилиями их тетушки Анны Михайловны, то ли из англоманской моды, то ли Бог знает почему, было "несколько в этом роде". Мемуарист (М.И.Жихарев – адресат цитированного чаадаевского письма о "привилегированной стране пейзажа") отмечает: "У Чаадаева был какой-то вроде дядьки англичанин, про которого мне ничего не известно, исключая того, что по этому случаю оба брата хорошо знали по-английски, что между русскими нечасто бывает. Сверх того Петра Чаадаева (как не раз мне это пересказано было) дядька-англичанин научил пить грог". И далее – тридцать пять страниц спустя: "Естественные и точные науки составили предмет его очень раннего знакомства и юношеского любопытства – печать и признак значительной доли английского влияния и английского перевеса в его первоначальном воспитании". Значит, британец заговорил в Чаадаеве не с бухты-барахты, не с кондачка, не в пароксизме злобной русофобии и не в жалком трепете заядлого иезуита, закоренелого масона, низкопоклонного космополита. Нет. Британец заговорил в Чаадаеве вместе с самим Чаадаевым. Не Арина Родионовна вскормила его молоком, а дядька-англичанин вспоил грогом и посвятил в тайны натурфилософии. Удивительно ли тогда, что началом своего религиозного обращения, днем, "когда явилось понимание истины" (по собственному его выражению) было 31 января 1825 года. В этот день Чаадаев познакомился во Флоренции с английским миссионером-методистом Чарльзом Куком. Не создается ли у вас впечатление, что англичане передавали нашего героя из рук в руки? Утверждение это имеет еще одно, несколько курьезное, доказательство. От хандры и душевной болезни, осадивших его по возвращении из-за границы, Чаадаев вылечился тем, что стал ездить не куда-нибудь, а в Аглицкий клуб! Слово Жихареву: "Профессор Альфонский (потом ректор Московского университета), видя его в том нестерпимом для врача положении, которое на обыкновенном языке зовется "ни в короб, ни из короба", предписал ему развлечения, а на жалобы: "Куда же я поеду, с кем мне видеться, как где быть?" – отвечал тем, что лично свез его в московский английский клуб. В клубе он встретил очень много знакомых, которых и сам был доволен видеть и которые и ему обрадовались... Побывавши в клубе, увидав, что общество удостаивает его еще вниманием, он стал скоро и заметно поправляться, хотя к совершенному здоровью никогда не возвращался".
Но все-таки есть некое обстоятельство, о которое наше самоуверенное рассуждение спотыкается, будто усатый дядька в белом сюртуке и канотье, шагающий по лугу с насвистыванием и цветочком в петличке, налетает на валун-невидимку, исчезает из поля зрения, а после паузы над травой медленно восходит багровая морда. Где теперь порхает мелодийка из "Сказок венского леса"? Куда запропастился цветок? Какими тропками укатило канотье? Как нам уверить читателя в "английскости" Чаадаева, если симпатии последнего к католицизму общеизвестны не в меньшей степени, чем антипатии к тому же самому католицизму большинства англичан?
Ну что. Попробуем спасти нашего сельского джентльмена. Откатим валун в сторону или пометим его алым флажком. Пусть контраргумент скрестит шпаги с аргументом. Да, Чаадаев – католик. Но, с другой стороны, да, Чаадаев – англичанин. Произведем сложение. Английский католик. Действительно, Чаадаев близок по духу к так называемым "английским католикам" – роду чрезвычайно талантливых людей, вложивших неофитскую страсть в сочинение одной-единственной "апологии христианства" (католицизма), в какие бы жанры эта причудливая "апология" ни вырастала: детектив, сказочная эпопея, трактат, мелодрама, сатира. "Английские католики" так же непохожи на просто англичан, как левая рука непохожа на правую: линии тоньше, кожа мягче, меньше силы, но больше нервической дрожи в пальцах. Не имеют ли сходства историософские концепции Чаадаева и Честертона?1 Без сомнения, у них есть общие детали – весьма сдержанное отношение к античности и, наоборот, симпатия к иудаизму и исламу. Католицизм Честертона – это католицизм эстета, воспитанного на прерафаэлитах, Бердсли и Уайльде. Католицизм Чаадаева, опрометчиво-точно заметил Мандельштам, – "католицизм замоскворецкого сноба". Но и это еще не все. Хорн Фишер – лысый, грустный, ироничный, отвергнутый властью (но не людьми власти) герой поздних детективных рассказов Честертона будто списан со столь же лысого, грустного и ироничного Чаадаева, которого, по освидетельствовании психиатром Николаем Романовым, признали сумасшедшим, а по свидетельству огромного числа государственных чинов (от директора департамента духовных дел иностранных исповеданий А.И.Тургенева до шефа корпуса жандармов А.Ф.Орлова) – блестящим и светским человеком2. Впрочем, наш герой более похож на другого британского сыщика-любителя. На Шерлока Холмса, конечно3. Первым на это сходство указал трудолюбивый Ричард Темпест4, а в качестве доказательства предъявил знаменитую историю о том, как Чаадаев в три дня разгадал в имени "Луи Колардо" неполную анаграмму "Долгорукий". Чем не пляшущие человечки? И Холмс и Чаадаев жили уединенно, бобылями, были тщеславны и асексуальны, имели странные привычки и раздражительный ум. И у того и у другого – простодушный (но не бесталанный) биограф: д-р Уотсон и М.И.Жихарев (то, как у нас перепутали М.И.Жихарева, биографа Чаадаева, с его троюродным дядей С.П.Жихаревым, мемуаристом, сродни тому, как у нас до сих пор путают доктора Уотсона с медиком Ватсоном). Чуткое ухо уловит схожую интонацию в сентенциях Чаадаева о литературном стиле жихаревских писаний и в рассуждениях Холмса о рассказах Уотсона, о его страсти "приукрашивать". Холмс: "Вы... ошибаетесь, стараясь приукрасить и оживить ваши записки, вместо того, чтобы ограничиться сухим анализом причин и следствий". Чаадаев: "Ты мне позволишь, однако, во всяком случае дать тебе совет: хорошенько вырабатывать свой слог, несколько склонный к пухлости. Потребно иногда, я это знаю, некоторое мужество для того, чтобы вымарать выражение, которое кажется нам счастливым, но, надеюсь, что этого мужества у тебя достанет. По части слога счастливо только то, что у места, и можно, если слог сдерживать, легко привыкнуть находить некоторое удовлетворение, пожертвовавши звучной фразой или звучным словом".
Кажется, я поступаю по-сусанински. С Басманной улицы я увел читателя на Бейкер-стрит, но рано или поздно он очнется и разгневанно укажет перстом на главную мою оплошность – ту, которую я и пытался скрыть сомнительными ухищрениями. Вот он, перст. Вот она, оплошность. Какой Чаадаев англичанин, если нерв, стержень всей его рефлексии, по общему и однозначному убеждению – судьба и будущее России?
Что ж, прищучили. Но попробуем объясниться. Самая странная особенность чаадаевской исторической рефлексии в том, что в ней нет России5. Россия в чаадаевских рассуждениях ни при чем. О ней он говорил либо в императиве ("нам надо то, нам надо это"), либо в родительном падеже ("у нас нет того, у нас нет этого"), либо в конъюнктиве, детерминированном, однако, все тем же родительным падежом ("мы могли бы стать тем-то, т. к. у нас не было того-то"). Очевидно, что императив не предполагает распознания, выделения характерных черт того, к кому обращаются. Императив – нагая воля, безразличная к контексту. Чаадаевский родительный падеж имеет то же отношение к России, что и к, скажем, Северной Америке. Ведь и там не было и того и сего; даже в большей степени, чем в России. Что же до конъюнктива, то попробуйте определить, о какой стране говорит Чаадаев: "Я считаю наше положение счастливым, если только мы сумеем правильно оценить его; я думаю, что большое преимущество иметь возможность созерцать и судить мир со всей высоты мысли, свободной от необузданных страстей и жалких корыстей, которые в других местах мутят взор человека и извращают его суждения. Больше того: у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество". Автор оказался прекрасным предсказателем: все (или почти все) вышеперечисленное сбылось. Но не с Россией, конечно, о которой здесь и речи нет, а с Северной Америкой. Так мог рассуждать лишь английский методист, эмигрировавший в Новую Англию. Уж не Чарльз ли Кук научил Чаадаева такого рода сентенциям?
Более того, нашему герою о России все равно, что говорить. Так в "Отрывках и афоризмах" он травестирует добротный, скучный, как армяк, способ славянофильского рассуждения: "С одной стороны, беспорядочное движение европейского общества к своей неведомой судьбе, в то время, как сама почва на Западе всё колеблется, готовая рухнуть под стопами новаторского гения; с другой – величавая неподвижность нашей родины и совершеннейшее спокойствие ее народов, ясным и спокойным взором наблюдающих страшную бурю, бушующую у ее порога: вот величественное зрелище, представляемое в наши дни двумя половинами человеческого общества, зрелище поучительное и которым нельзя достаточно восхищаться... десять страниц в том же духе". Но уже в "Записке графу Бенкендорфу" (написанной, кстати, от имени Ивана Киреевского) мы находим если не десять, то семь именно в том же духе; вернее, "в духе", конечно, совсем не том, а в "добротном" и "верноподданном", но смысл – тот же. Например: "...что лишь под сенью попечительной о нас власти, способной оградить нас от волнений, столь жестоко потрясающих в наши дни Европу..." И еще четыре страницы в том же духе.
В этом равнодушии к содержанию (как раньше бы сказали – "направлению") высказывания, в этой невозмутимой, продуманной логике фразы, текста, отрывка (оба вышеприведенных примера строятся по принципу оппозиции "мы" – "они"; только в первом оппозиция растворяется под действием едких "десять страниц в том же духе"), в этой сосредоточенности на себе – своего рода волшебнике Гудвине, который, имея перед собой бесконечно унылую среднерусскую равнину, развлекается тем, что разглядывает ее то сквозь розовые, то сквозь черные или красные очки, – да-да, во всем этом чувствуется не просто интеллектуальное щегольство или даже нарциссизм, а дендизм. Интеллектуальный дендизм. В духе Оскара Уайльда. Здравствуй, Англия!
"Жить и умереть перед зеркалом", – так Бодлер определил закон денди. Чаадаев изо всех сил своего "чудесного и хрупкого нервного существа" (по прелестному выражению М.И.Жихарева) старался следовать этому правилу. Он был денди. "Чаадаев рисовался серьезно и с некоторым благоговением смотрел на подлинник, в котором преображался", – философически замечает князь Вяземский. Герцен, описывая нашего героя, впадает в несвойственный ему декадентский, почти набоковский тон: "Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными..." Свидетельство Бориса Чичерина более основательно и простодушно: "Чаадаев, с его голою, как рука, головою, с его неукоризненно светскими манерами с его образованным и оригинальным умом и вечною позою..."6. Наконец, Михаил Жихарев, это честнейшее чаадаевское зерцало, отобразил следующее: "Одевался он, можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы одежда его была дорога; напротив того, никаких драгоценностей, всего того, что зовут "bijou", на нем никогда не было. Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видал никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы столько достоинством и грацией своей особы придавать значения своему платью. В этой его особенности было что-то, что, не стесняясь, можно назвать неуловимым. На нем все было безукоризненно модно, и ничто не только не напоминало модной картинки, но и отдаляло всякое о ней помышление. Я не знаю, как одевались мистер Бруммель7 и ему подобные, и потому воздержусь от всякого сравнения с этими исполинами всемирного дандизма и франтовства, но заключу тем, что искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения". И далее: "Его недоброжелатели... справедливо указывали... на его чопорность и напыщенность". Да, чопорность и напыщенность Чаадаева были английскими; но в образцах у него был не Бруммель, а другие, настоящие британские денди – Байрон и (подпустим мистическую шпильку) не родившийся еще Оскар Уайльд. Есть два классических определения дендизма (оба принадлежат Альберу Камю): "Дендизм – это упадочная форма аскезы" и "Денди – оппозиционер по своему предназначению. Он держится только благодаря тому, что бросает вызов". Первое – о Бруммеле и о Чаадаеве, возведших искусство одеваться почти на степень исторического значения. Второе – о Байроне, о котором Честертон сказал, что черный цвет Байрона – это слишком сгущенный красный, и о Чаадаеве – авторе афоризма "Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его противники".
Чаадаев был не просто англичанин. Он был английский денди. Мне ужасно не хотелось цитировать в этом тексте Пушкина, но придется. Однако сведем цитату до минимума. "Денди лондонский". Лондонский денди в Брайтоне. Чаадаев. И все-таки самый волевой, самый хладнокровный и изощренный денди имеет слабинку: простую, милую, тайную, немного стыдную, а по всему этому – сладчайшую привязанность, но – простецкую: пироги с морковью, рюмка водки с морозца, сиреневые романсы на стихи Апухтина. Так русский денди Онегин полюбил замужнюю простушку Татьяну. Так Чаадаев, позер, католик и щеголь, любил веселые английские лужайки, домики, солнышко. "Когда же вы поселились однажды в недрах древней Англии, когда кроткая приязнь, наслаждение симпатии окружат вас отовсюду и заменят всю скуку первого приема; когда вам удастся, наконец, там, посреди английского семейства, на зеленой лужайке красивого загородного дома, под тенью прекрасных дубов и кленов (вязов), – удастся произнести слово home, как говорит его природный житель, тогда, не знаю, но мне кажется, что без сожаления изгладится из памяти воспоминание об отечестве, хотя бы это отечество была дорогая наша Россия (Русь!)"
Таков был патриотизм британского сноба.
1 Помимо того, что их фамилии начинаются на "ч". Вообще, можно было бы написать эссе под названием "ч2 (Чаадаев и Честертон)". В завершение этой странной литералогии скажу, что "ч" сыграло в судьбе Чаадаева очень важную роль: во-первых, оно утянуло своего носителя в самый конец исторического именного указателя, после Пушкина, но, слава Богу, перед Якушкиным; во-вторых, "ч" отпечаталось в названии главного чаадаевского сочинения – "Философических писем". Отличие "Философических писем" от просто "Философских" именно в наличие "ч". Таким образом, "Философические письма" – это "Философские письма", писанные Чаадаевым.
2 "У, Ф, Х, Ц, Ч" – "Уваров С.С. – министр народного просвещения; Фишер Х., Цыганский Л.М. – московский обер-полицмейстер; Чаадаев П.Я."
3 "У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш" – "д-р Уотсон; Фишер Х.; Цыганский Л.М.; Чаадаев П.Я.; Шерлок Холмс".
4 И остроумный. Р.Темпест опубликовал в "Звезде" письма Чаадаева М.И.Жихареву, а статью о последнем назвал "Скромный страж". Название это перекликается с названием романа М.Кузмина "Тихий страж", проникнутым мальчиковой гомосексуальной влюбленностью в старшего и капризного родственника. Кажется, исследователь пытается намекнуть на характер отношения Жихарева к Чаадаеву.
5 Это заметил еще Мандельштам: "Зияние пустоты между написанными известными отрывками – это отсутствующая мысль о России".
6 "Поза собирает в некую эстетическую целостность человека, отданного на власть случая и разрушаемого божественным насилием", – писал Альберт Камю в сочинении "Бунтующий человек" (главка "Мятежные денди"). Не на "телескопский" скандал ли намекал он, говоря: "власть случая"; не на загадочную ли асексуальность Чаадаева указывал, толкуя о "божественном насилии"?
7 Великий английский денди первой трети XIX в., друг Байрона.
Продолжение книги "Профили и ситуации"
|