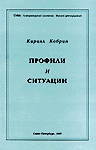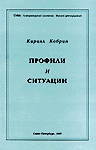Юрий Лотман похвалил его за стихотворение "Ухаб", предсказавшее "поэтическое новаторство Некрасова". Владислав Ходасевич – за долгую жизнь и "хорошие отношения с родителями Пушкина и особенно с его сестрой, Ольгой Сергеевной". Сам Пушкин журил его за "покровительство черт знает кому", а составители пушкинского десятитомника – за то, что он "не освободился от односторонности "карамзинистских" литературных вкусов и не сумел увидеть расстояние, отделявшее изящного баснописца Дмитриева от Крылова". Впрочем, самую неожиданную выволочку князь Петр Андреевич Вяземский получил от графа Соллогуба: "Совсем иными являлись приемы князя Петра Вяземского, тоже тогда модного стихотворца, которые, несмотря на аристократичность самого хозяина, представлялись чем-то вроде толкучего рынка. Князь Вяземский, человек остроумный и любезный, имел слабость принимать у себя всех и каждого. Рядом с графом, потом князем Алексеем Федоровичем Орловым, тогда всесильным сановником и любимцем императора, на диване восседала в допотопном чепце какая-нибудь мелкопоместная помещица из Сызранского уезда; подле воркующей о последней арии итальянской примадонны светской красавицы егозил какой-нибудь армяшка, чуть ли не торгующий лабазным товаром в Тифлисе". Соллогуб, конечно, безнадежный идиот; именно идиотизм штамповал лексику приведенного отрывка: Вяземский – "модный стихотворец" (никогда не был, тем более в 30–40-е гг.), "егозящий армяшка" охотнорядского происхождения и проч. Интонация фразы – интонация субтильного импотента. Но вот что (помимо своей воли и интеллекта) ухватил этот владелец двойного "л" – сами писания князя Петра Андреевича разномастны; именно в собрании его трудов можно встретить и жирного туза (читай, помянутого Орлова), и весьма домашнюю сызранскую дамушку-бабушку, и травестушечку-джокера, одетого армянином из Тифлиса. "Мой ум – колода карт", – писал Вяземский. "Сочинения тоже", – добавим мы. И оды, и эпиграммы, и элегии, и рецензии, и путешествия, и политика, и похабщина... "и мои безделки" (как не вспомнить Дмитриева И. И., сенатора и стихотворца). Заглянем в дневник Вяземского – вот модель его салона – министр Тьер и парикмахер Пьер, Смит Хорас и Смит Адам, рассуждения об устройстве нижегородской ярмонки, о видах на новый кабинет министров в Англии, о том, что "смерть Карамзина в русском быту оставила по себе бездну пустоты, которую нам завалить уже не придется", о том, что некий Гладков "имеет три охоты, которые вредят себе взаимно: охоту Транжирина, пьянства и собачью". Слегка рассеянное внимание Вяземского неторопливо путешествует от одного предмета к другому, так же, как и сам князь провел большую часть своей чудовищно долгой жизни в разъездах.
О передвижении (реальном или гипотетическом) в пространстве повествует большая часть его корреспонденции. "Стихи мои ищут тебя по всей России – я ждал тебя осенью в Одессу и к тебе бы приехал – да мне все идет наперекор", – пишет Пушкин Вяземскому шестого февраля 1823 г. Через два месяца он вновь возвращается к этой теме: "Если летом ты поедешь в Одессу, не завернешь ли по дороге в Кишинев?" И еще, уже в декабре того же года: "Что если б ты заехал к нам на Юг нынче весною?" Впрочем, сам Вяземский так и не приехал в Одессу, зато приехала супруга его, Вера Федоровна. Вот завершение этого несостоявшегося путешествия князя, надо сказать, одного из редчайших путешествий его не в карете, а на бумаге: "Жена твоя приехала сегодня, привезла мне твои письма и мадригал Василия Львовича, в котором он мне говорит: "Ты будешь жить с княгинею прелестной"; не верь ему, душа моя..."
О том, что Вяземский – путешественник, знали не только друзья, но и августейшие особы. Вот слова самого князя: "Отпуская меня, император, с своею ласковою и выразительною улыбкою, спросил меня: а что, вы и теперь поедете на Ригу?" Михаил Лонгинов, пакостник, библиофил и цензор, собрал стихи Петра Андреевича в книжечку с говорящим названием "В дороге и дома" (можно было и имени авторского не ставить – ясно, кто написал). Обратите внимание, что сначала "в дороге" и только потом "дома". К этой книге был бы хорош такой эпиграф: "Я выехал из Варшавы 14/26 декабря, в десять часов утром с похмелья: лучше пьяным выезжать". Вообще, взгляд Вяземского – похмельный, но человека опытного в питейном деле; он с похмелья не страдает, только поутру внимательнее к мелочам и чуть меланхоличнее.
Именно меланхолия и острота взгляда помешали Вяземскому доехать до конечной станции – "Сиятельный Олимп русской литературы XIX в.". Он не следовал из пункта А в пункт Б, из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург. Он – путешествовал:
Не раз с унынья и с веселья,
С излишества добра и зла,
С тоски столичного похмелья1
О четырех колесах келья
Душеспасительна была. |
Князь Петр Андреевич лечил путешествиями душу, но путешествовал он не только в географическом роде, но и в ином. Несколько лет назад я подслушал прелюбопытный разговор с одним (ныне покойным) московским литератором. Человек неглубокой интеллигентской одаренности, он блистал на какой-то литературной конференции, наполняя своим красивым, глубоким, отретушированным бархатным голосом не только (и не столько) зал заседаний, но и кулуары. Как раз между кафе и туалетом я выудил из ровного гулка (вполне по-лермонтовски) следующую беседу:
Литератор: Знаете, дорогой мой, писать вещи в одну страницу претенциозно. Вместить в такой объем что-либо серьезное невозможно, а стилистически вы не так талантливы, чтобы любая чепуха выглядела конфеткой.
Молодой автор: Да-да, я понимаю. А как же Борхес? Ведь у него есть вещи и на полстраницы?
Литератор: Борхес, Борхес... А кто такой Борхес? А что он вообще написал? Сплошные рецензии...
В этот момент меня подцепил приятель, и многоинтересный разговор мэтра с неофитом стал достоянием ангелов, которые, говорят, паря в эфире, слышат (и слушают!) все наши беседы. И вот сегодня я прошу ангелов передать блаженствующей в раю или скучающей в чистилище душе Литератора, просто передать, без надежды на ответ: "А как же тогда Вяземский?" Ведь тоже сплошные рецензийки, дневнички, письмушки, мемуарчики, эпиграммки, поздравленьица, мадригалочки? Он-то кто таков будет?
Отвечу сам, не прибегая к верчению столов2. Путешественник. Путешественник по жанрам3. Трудно написать гениальную новеллу. Чертовски трудно написать гениальное стихотворение. Гениальную рецензию написать почти невозможно. Князь Петр Вяземский сделал это. Речь идет о рецензии на книгу – "Аннибал на развалинах Карфагена. Драматическая поэма. Сочинение Д.Струйского. С эпиграфом: "От великого до смешного только один шаг". СПб., 1827, в тип. Н.Греча, in 8, 48 стр." Текст напечатан в журнале "Московский Телеграф" за 1827 г., дополнения к нему написаны сорок восемь лет спустя. Подержим в руках, погреем теплом ладоней этот маленький драгоценный камешек.
Мне кажется, я вижу образ этого текста – вертящееся велосипедное колесо: неясным пятном маячит ось, спицы слились и исчезли, неподвижен обод в своем стремительно-бесполезном беге. (Собственно, вот образ искусства вообще). Ось – сама рецензия, вернее, ее идея, т. к., строго говоря, рецензии нет. О сочинении господина Д.Струйского написана лишь одна страница из общих пяти с половиной. И что за страница! Начинается с издевательской фразы: "Только не бойтесь, любезные читатели: зная, что наш век гораздо быстрее на ходу, чем старый, пробегу с вами наскоро новое произведение и не засижусь с "Аннибалом на развалинах Карфагена"". Вяземский сдержал слово – не засиделся; более того, дальше названия не пошел (не считая двусмысленных сентенций – типа: "Одним словом, сдается что-то поэтическое"). Страничка заканчивается совсем уж пародией: "В падении Аннибала с вершины славы нет ничего смешного, а много грозного и поучительного". Перед нами классическая дырка от бублика. Что же за тесто окольцовывает эту дырку?
Легкое, суховатое, дразнящее аппетит. Распробуем первую фразу рецензии: "Имя Струйского уже известно в летописях нашего стихотворства, то есть известно малому числу литературных антиквариев наших". Думаете, Д.Ю.Струйского? Как бы не так! Имя Николая Струйского, автора "Сочинений Николая Струйского", посвященных Екатерине Великой, изданных в 1790 г., известно малому числу литературных антиквариев... и проч. Струйский, да не тот. Три страницы посвятил Вяземский сочинению Струйского Первого, почти в три раза больше, чем сочинению Струйского Второго. Эти три страницы, говоря запросто, стилистическое чудо, шедевр русской изящной словесности. Она действительно изящна – вяземская словесность. Вот вам примеры: "В этой книге множество стихов "печатью мелкою убитых": элегий, песен, надписей, посланий, эпиграмм, билетцев, од и проч."4. Читатель с тонким вкусом оценит и гениально вкрученную батюшковскую строчку, и ласковые "билетцы" (почти "братцы"). А дальше – прелестная охотничья миниатюра: "Тогда разнообразный или, по крайней мере, разнопредприимчивый Сумароков гнался за всеми родами поэзии, и современники его рассыпались за ним по всем тропинкам Парнаса". От охоты – к усадебному быту: "Если эти стихи не доказывают, что г-н Струйский был великий поэт, то доказывают, по крайней мере, что он был попечительный и признательный помещик, а это также чего-нибудь да стоит". "Чем стихи эти не стихи?" – лукаво-простодушно восклицает Вяземский и, будто невзначай, бросает потрясающую фразу: "Оспоривать народность этих стихов невозможно: они крепостные русские" (курсив мой. – К.К.). Вот тема ненаписанных еще "Мертвых душ"! Приезжий Чичиков (путешественник Вяземский) торгует у Собакевича-Струйского (Н.) крепостных русских, от коих одни имена остались: "Эпистола к нехранящим уставы", "Еротоиды", "Кащей", "Наставление к хотящим быти петиметрами", наконец, загадочное "епиг" (в миру – "эпиграмма"), которое Вяземский весьма одобрил: "Это застенчивое усечение мило до крайности". Чем не реестр Собакевича, который "поражал необыкновенною полнотою и обстоятельностию", где "ни одно из качеств мужика не было пропущено"; об одном было сказано: "хороший столяр", к другому приписано: "дело смыслит и хмельного не берет"5. Только ампутированная "епиг" явно принадлежит Плюшкину: "Записка Плюшкина отличалась краткостию в слоге: часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств, а потом две точки".
Если передняя половинка нашего бублика замешена на остроте и изяществе, то задняя несколько избыточнее на вкус, я бы сказал – сдобнее и изобильнее, может быть, потому, что выпечена (приписана) почти полвека спустя. Это история о том, как Вяземский встретил героя своей рецензии (Д.Ю., конечно, а не Н.) в 1834 г. во Флоренции, в саду Боболи. Впрочем, возможно автор "Аннибала" пригрезился князю; представьте себе: Италия, ноябрьский вечер, поблескивают лунным светом очки курносого князя, вышедшего прогуляться после визита к князю Монфору, и вдруг – существо в истертом русском служебном фраке, автор "Аннибала на развалинах Карфагена", сочинитель Д.Струйский, известный под нелепым псевдонимом Трилунный. Слишком живописно, чтобы быть правдой. Добавим – слишком похоже на явление тени гоголевского Башмачкина начальнику канцелярии... "Не мог я дать себе прямой отчет в видении, рисовавшемся передо мною", – замечает князь в 1875 г. И пытается рационально объяснить ситуацию, мол, небогатый чиновник, хотел повидать мир, бережливостью своею сколотил из скудного жалования небольшую сумму, отправился путешествовать, из экономии донашивал служебный фрак, во всем этом есть много поэзии, более, чем во многих стихах... В общем, дюжина еще не написанных чеховских дюжинных рассказов. Интереснее другое: "Приписка" открывается следующей фразой: "Этот второй Струйский африканский, в отличие от первого Струйского рузаевского, может быть, тот же Струйский, который..." Бублик, или, если хотите – круг, замыкается – к первому "С" приставляют зеркало, отражающее второе, перевернутое. Совместим их. Получается круг: "О". Или бублик. Или колесо от кареты, то самое, что в Москву доедет, а в Казань – нет. В Рузаевку, как мы видим, доехало: "Дорогою сделал я еще журнальное открытие: вообразите, что я был в двадцати верстах от Рузаевки, деревни поэта Струйского, о котором писал я в "Телеграфе". Вдова его и два сына еще живы. Попалась ли им моя статья?" Судьба явно погрешила бы против вкуса, соорудив следующую сценку: растроганная вдова прижимает к пухлой груди "Московский Телеграф" с рецензией Вяземского. Полные слез и благодарности глаза. Разделить матушкину радость спешат немолодые сыновья, простирая руки. Прислуга вытирает ладони о передник и ласково-укоризненно смотрит на комья земли и навоза, оставленные хозяевами на только что вымытом полу. Кричит петух. Зовется буфетчик. Извлекается заветная настойка. Вдали, на заднем плане, в клубах пыли несется коляска князя Петра Андреевича.
Вяземский в своем дорогом, штучном, чуть угловатом экипаже семьдесят лет держал путь на заднем плане русской литературы. Иные путешественники привлекали любопытство публики, иные пересекали передний план, иные имели быть в фокусе внимания: вот скачут по оренбургским степям пугачевские шайки, вот где-то под Пятигорском молодой офицер с интересной бледностью в лице рыдает над загнанной лошадью, вот бубликом катится чичиковская бричка, вот карта с пилигримажем некрасовских пейзан, вот, наконец, основательный и комфортный (благородный темный лак и медный блеск) железнодорожный вагон, и сквозь двойные рамы его виднеются: Рогожин и Мышкин, Анна и Вронский. Но групповой портрет по прошествии смерти превращается в натюрморт, надуманность деревянных поз, неуместность застывших жестов – чего стоит одна мадам Каренина, навеки разрезанная поездом... Только наш князь ("жив, курилка!" – написал бы он сам) все блестит очочками в своем бесконечном движении из Тамбова в Висбаден и обратно.
Уже на пороге смерти Вяземский сочинил предисловие к первому тому собственного ПСС. Что же рассказывает он на предпоследней странице своей жизни: "Однажды приехал я в свою костромскую вотчину, в известное в краю торговое и промышленное село Красное..." Дальше – все, что угодно. Многоточие. Столб пыли за коляской. В коляске за стеклом знакомый курносый профиль. "Бог фасы мне не дал, а дал мне только несколько профилей".
Приписка
Как жаль, что тайна Игры в бисер сошла в могилу вместе с изобретателем ее – Германом Гессе! Ведь можно было бы составить интересную партию с такими исходными данными: в 1790 г. полусумасшедший/полуталантливый Николай Струйский печатает книгу своих сочинений. В 1825 г. князь Петр Андреевич Вяземский, сын князя Андрея Ивановича Вяземского, некогда начальника Ивана Михайловича Долгорукова, описавшего в "Капище моего сердца, или Словаре всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни" Николая Струйского, начал сотрудничать в журнале "Московский Телеграф". В 1827 г. незаконный сын одного из сыновей Н.Струйского – Д.Струйский (с 1829 г. – Трилунный) издает свою драматическую поэму "Аннибал на развалинах Карфагена". В том же году П.А.Вяземский откликается на эту книгу рецензией в "Московском Телеграфе". В 1834 г. рецензент встречает поэта во Флоренции. В 1837 г. Д.Струйский пишет романс на стихи П.Вяземского "Слезы". В 1838 г. в солдатской больнице умирает двоюродный брат Д.Струйского поэт А.Полежаев. В 1856 г. заканчивает свое существование в подлунном мире сам Струйский-Трилунный. В 1875 г. П.Вяземский сочиняет "Приписку" о своей встрече с автором "Аннибала" в флорентийском саду Боболи. Через три года завершается земное путешествие самого князя (после смерти он совершит еще одно: из Баден-Бадена, где умер, в Петербург, где похоронен). Но вот вопрос: где найти тот универсальный код, тот всеобщий язык, ту каббалу, что вместит и выразит в своих магических знаках шрифт рузаевской типографии, ремарку "Аннибал вынимает яд и поспешно его выпивает", лжемрамор обложки "Московского Телеграфа", вкус дорожной пыли, мелодийку струйско-вяземского романса, выгоревшую зелень русского служебного фрака, труп Полежаева с объеденной крысами ногой, крупные клетки старческого халата князя? И не только вместит и выразит, но составит из всего этого дистиллированную от подробностей логическую и интонационную формулу? В ней, может быть, более высшей поэзии, нежели во многих стихах многих поэтов.
1 "Лучше пьяным выезжать".
2 Вертеть столы не буду, но вот два голоса, некогда подхваченные скрипом типографского станка: "Князь Вяземский, довольно даровитый поэт, но плохой литератор, не имевший прочных оснований" (М.А.Дмитриев) и "О! Не великий князь (когда-то либерал), От ссыльных сверстников далеко ты удрал" (Н.П.Огарев).
3 Воспользуюсь удачным выражением Игоря Померанцева.
4 Пишет будто о томе своих "Стихотворений" в серии "Библиотека поэта".
5 См. название стихотворения Н. Струйского "На смерть верного моего Зяблова, последующую в Рузаевке, 1784 г., узнанную мною в Москве".