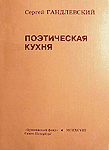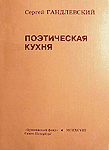В этом году исполняется 110 лет со дня рождения Владислава Ходасевича, но в широкий обиход современной отечественной словесности его творчество вошло совсем недавно. Многие помнят эти стихи ещё на разрозненных листах бледных машинописных копий. Летом восемьдесят восьмого года я глазам своим не поверил, когда в подмосковном посёлке на прилавке магазина «Культтовары» увидел ходасевичевского «Державина». Это в прошлом. И всё-таки, Ходасевич, по мнению Набокова, «крупнейший поэт нашего времени», - автор ещё не хрестоматийный. В моём «Советском энциклопедическом словаре» 1985 года за статьёй «Ход часов» без запинки следует «Ходейда».
Талант Ходасевича развивался и мужал в ту пору, когда от серьёзной литературы ожидали осуществления чуть ли не бесперебойной связи между идеальным и материальным мирами. Девятнадцатый век неволил русскую литературу общественным служением, долгом перед народом; начавшийся двадцатый - поставил перед ней ещё одну, не менее сложную сверхзадачу: стать жречеством.
Говорить художнику под руку, внушать обществу, что истинное искусство обязано быть подспорьем политике, философии, религии, чему-то ещё, - верный способ оставить по себе в культуре недобрую память. Сбитый с толку художник лишается плодотворного ощущения неподотчётности, родства с ветром, орлом и сердцем девы, а у критики и публики, привыкающих ценить в произведении искусства в первую очередь намерение, притупляется художественный вкус.
Уклоняясь от сотрудничества, искусство может объявить себя «чистым». Но его чистота и диета - не от хорошей жизни и снова означают несвободу, потому что выбор делается от противного. У художника есть только одно средство освободиться из плена общих мест - перерасти их, быть недюжинной творческой личностью.
Ходасевич и был такой личностью, поэтому он пошёл по пути наибольшего сопротивления: традиционное для русской литературы отношение к искусству, как к подвигу, принял близко к сердцу, но оставил за собой право совершить этот подвиг в одиночку и по своему усмотрению. А общественным эстетическим послаблением, скидкой на подвижничество - не воспользовался, мечтал даже собственную агонию «облечь в отчётливую оду».
У Ходасевича репутация гордеца, поэта высокомерного, и она вполне справедлива, если вернуть слову «высокомерие» его изначальное значение. Он действительно мерил жизнь высокой мерой, на свой аршин, исходя из идеальных о ней представлений и говоря с нею языком классической поэзии. Но если бы имелось только это, речь бы шла об обаятельном чудачестве, литературном донкихотстве; вернее, говорить за давностью времени было бы не о чем. Чрезвычайное впечатление от лирики В. Ходасевича объясняется, я думаю, совершенно раскованной головокружительной интонацией его стихов и совмещением несовместимого: возвышенного слога и низких материй - вроде потерянного пенсне или похорон полотёра Савельева.
Ходасевич не стеснялся сравнивать себя с Орфеем, но Аид этого автора похож на недра метро. В каждом надменном стихотворении Ходасевича есть замечательная уравновешивающая подробность, разом обезоруживающая борца с выспренностью:
Действительно в каждом. И это увлекательное занятие - следить, как под пером поэта оживает, казалось бы, навсегда пропахшая нафталином поэтическая рухлядь: видавшие виды лексика, размеры, рифмы - и превращается в строфы, заряженные сухой страстью.
Ходасевич был современником решительных литературных переворотов. Шахматная доска искусства предстала новым игрокам тесной и исхоженной вдоль и поперёк. Хлебников, Маяковский, Пастернак и многие другие талантливые авторы предприняли попытки раздвинуть поле. Опыт Ходасевича доказал, что неординарные ходы можно делать и в пределах азбучных 64-х клеток.
«Старомодная» лирика Ходасевича напоминает: никакого новаторства самого по себе, художественной дерзости вообще, приёма, годного на любой случай, не существует. Любить новаторство или не любить новаторства - всё равно, что любить или не любить китайцев, это - неумно.
Ходасевич не одержим стихами, как это было принято в Серебряном веке, а держится литератором. Эта выправка помогла ему сохранить человеческое и писательское достоинство в последнее десятилетие его жизни, когда поэтические силы изменили ему. Она же, как мне кажется, выручила в очень нелёгком испытании, выпавшем на его долю. Ходасевич имел зловещего двойника - блистательного поэта Георгия Иванова. Скорее всего бессознательно Иванов присваивал сюжеты, интонации, образы некоторых стихотворений Ходасевича и, что самое ужасное, эпигону случалось превзойти в совершенстве автора. Искусство изначально - сама несправедливость, но для Ходасевича было сделано исключение: иногда побеждая в частностях, Иванов проиграл сопернику в целом - оказался в его тени, вписался в вереницу парижских отверженных, персонажей «Европейской ночи», последней и лучшей книги Ходасевича. При прочих равных победа осталась за классически-определёнными, здравыми взаимоотношениями между творцом и творчеством, а не за декадентскими, всепоглощающими и саморазрушительными.
Уезжая в 1922 году из России с убогой кладью, включавшей собрание сочинений Пушкина, поэт написал: «Но: восемь томиков, не больше, - И в них вся родина моя». Не будем вдаваться в занимательную арифметику - четырехтомное собрание сочинений Владислава Ходасевича - тоже немало.