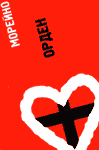
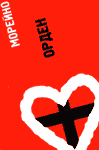 |
Свечение красных крыш на грани яви и бреда.
Полагаю, и перед смертью увижу это во сне.
Со дна подземных ключей всплывет бессмертное "Credo"
и плоть умерших на миг восставит во мне.
Ребенок
Льет, льет дождь.
Я гляжу на свое отраженье в стекле,
чтоб не делаться старше.
Миры плывут надо мной, но не уплывают,
а кружатся, проткнутые веретеном.
Сто лет назад мать спала бы над прялкой -
сегодня не спит, глядит в другое окно, на дорогу.
По ней идут люди, кто в лес, кто на кладбище,
кто с кладбища, кто из леса.
Те собрались на базар, те отправились в город.
Сыро и неуютно им, но люди идут, ибо людям
надо идти.
Там, вдали, за рекой, в омытой листве,
над шумом колес и смехом детишек,
среди чаек и ласточек высятся
одинокие гордые купола и
манят призывно.
Льет, льет дождь.
Когда он кончится, петух запоет у соседей.
Амбарные мыши начнут свою жизнь во дворах.
Поднимется ветер.
Мужчина
Воздух свеж.
Знать не знаю о будущем и о прошлом.
Вот мое настоящее в капле воды.
Ползу себе по круглой Земле,
под белой луной, красным солнцем
и желтыми звездами -
личинка-гусеничка,
жучок-паучок паутинкой дороги.
По лугам, по полям и весям, из дома в
дом, из кабака в кабак, от костела к костелу.
Когда встаю, моя земля распластывается у ног
в зеленом пушке наготы,
клетчатой юбке неснятого урожая
или виллайне снега.
Встаю, стало быть, перехожу реку вброд,
большим пальцем ноги расшвыриваю утлые лодки
и у крепостной стены, в тени мрачной башни
сажусь, попивая винцо.
Штаны мои в пятнах, как те серые камни:
о ляжки я вытер ладони;
шипит колбаса у торговца, что Гус на костре.
Женщины идут, трясут грудями и пахнут рыбой,
их каблуки увязают в песке,
с волос сыплются ракушки;
воспоминания поют в желобке вдоль спины.
Пестик в ступке плачет по ним,
смоляной канат в застенке плачет по мне.
Над равниной коршун вьется,
вьется коршун, серый брат.
Ничего не остается:
путь вперед да путь назад.
Не отравят, так повесят -
и не все ль тебе равно -
недопетая ли песня,
недопитое ль вино?
Травушка-муравушка,
метелочка-отравушка.
Сокола-соколики,
тополи-тополики.
Женщина
Башня стоит средь равнин, высокая башня.
Носом касается полночи, ухом полдня.
Ступени ведут к небесам
в известковой пыли.
Неважно, что ты увидишь оттуда -
блистательный град или
угли пожарищ.
Камень солнца и камень в солнце,
солнце камня и солнце в камне,
дробясь, умножают все,
что есть под луной и под звездами:
тень на песке.
Над равнинным пейзажем домишки под красными крышами.
Кто в них живет: узы крови, чувство локтя, долг чести.
Звук органа пересекает наш мир из конца в конец,
будто осеннюю рощу ветер.
Как он нужен нам, дух кирпичного братства!
Domini! Хочешь,
я расскажу Тебе о наших подвалах,
о зимних праздниках и о майской зелени лип?
Когда бы Ты знал, Господин,
как прекрасны мосты над нашими реками,
дуги удилищ - леса, возросшие утром над заводью,
что твоя радуга - арки костелов, куда мы приходим
попеть и поплакать,
золото наше уютно ложится в ладонь
- suum cuique -
бой часов приносит морщины и мысли
- sic venat -
молитвы сладко текут по губам
изо рта под сердце.
А надо мной и подо мной
небесный шар и шар земной
в какую сторону идти
свои наметили пути.
Несовпаденьем этих чаш
определяется путь наш.
В шагах, дающихся с трудом,
из цикла в цикл, из дома в дом.
Чей смысл за пеленой угас,
не для ушей наших и глаз,
без поражений и побед -
неугасимый звездный бред.
Мужчина
Совсем ничего не боюсь.
Верю - хромая пожалует
вовсе не с той стороны.
Вечно сижу на камнях,
созерцая кучи отбросов
и крыс, пожирающих дохлых чаек,
как прикованный, ожидая
не то прилива, не то
вечерней газеты или мороженщика.
Прошлые жизни всплывают со дна
и вызывают то слезы, а то отрыжку.
Давно не текла между ног
тепловатая жидкость,
заставлявшая нас
строить мосты и воспарять по ним
к Господу.
С каждым рассветом все тяжелее
собрать рассыпавшиеся миры.
Встаю, испражняюсь и долго смотрю на
форму пятна, расползшегося по песку -
кого оно напоминает:
рыбака, запекающего на костре
большую рыбу, или странника,
плывущего в лодке навстречу течению?
Видно, и мне уже пора отплывать.
Жизнь теплится во мне поминальной свечей.
Мои боги, мои жены и мои дети
видят, как я ем, пью, рыгаю, люблю,
становясь все ближе к земле,
откуда, собственно, вышел.
Над равниною небо расколото,
в тиглях ангелов плавится медь.
Разливается чистое золото -
нам такое и видеть не сметь.
И над черными страшными башнями,
выше крыши, но ниже дождя,
громыхает гвоздями вчерашними
колесница хромого вождя.
Сны нисходят на павших без времени,
обожженные рыхлые сны,
но мы держимся твердого стремени
и пока еще не прощены.
Женщина
Спел петушок свою прощальную песню.
Раньше или позже
в сердце придет покой.
Закопченная печь.
Полуденное безвременье.
Бабушка с внучкой
(ora pro nobis)
плечо к плечу
склонились над книгой
(Sancta Maria).
Лимонница, садясь на кусты попеременно
то мятлика, то чабреца,
рассказывает о мире, которого мы
не удосужились приобщиться.
Ты да я, да мы с тобой...
Мельница вертит свое колесо,
и плачет вода, попав между спицами.
Кто там просит о помощи?
Кто там, двумя жерновами размолотый в
скрежет и шлак,
в лопухе придорожном, ветке чертополоха,
под штукатуркой облупленного брандмауэра,
за косяком -
укорененный в сознаньях,
размазанный в подпространствах,
разлитый по бочкам пивным
- da mihi panem et potum -
на сизых камнях родового гнезда желтоватый налет,
плесень и паутина цветут в забытых подвалах,
разгадка от тайны далека, что слово от
слова на могильной плите,
свинец растворился в крышах,
ртуть в зеркалах,
олово - в кольцах,
и только золото тяжелою каплей
дрожит над землей,
просветляя пространство и разум.
Духи дня сменяются духами ночи.
Мышьяк и сера смешались. Время
вступает в свои права: хранить огонь.
Чистая кровь, голубая луна, живая вода
соединяются над землей и над домом.
Ручей течет, как водится, в никуда,
и кажется удивительным и знакомым.
Северный ветер проходит насквозь стога,
олени в ставни просовывают рога,
пути торит неведомая нога,
обутая в высокий башмак истомы.
Лают псы. Дрожит рука. Пахнет хлебом.
Сокол пересекает небо.
Ребенок
Дорога.
Нас соединяет дорога.
Все идут по ней:
сборщик податей и погонщик мулов.
Влекомые неясной целью,
воспоминанием, пузырьками в крови.
Едешь - не едешь, идешь - не идешь, ползешь - не ползешь:
пускаешь ростки, обрастаешь корнями,
цепляясь за каждый метр песчаного шляха,
ночуя на папертях и постоялых дворах
- храни веру, брат, -
хлевах и сараях,
в руках нежной родины и грубых лапах чужбины.
Как ни застилай вечером постель, наутро
она напоминает убитую птицу;
да не плачь, пастух, над заблудшей овцой -
гурт цел, пора собираться.
Жалкие кустики на полосе отчуждения
омыты слезами попутчиков,
и вся наша грусть - безумная любовь старика
к прекраснейшей из женщин.
Множество рук
протянуто к складкам ее плаща,
но если кто и любезен ее рукам
то это наш Господь, маленький.
Песчаный шлях приведет тебя в город.
Золотые ворота распахнутся,
ты встанешь в их створе. Навстречу
хлынет людской поток из стоведерных бочек.
Гордость, нищета и мирская слава
зайдутся колоколом от прикосновенья.
Здравствуй, пришелец,
да святятся твои одежды!
Запах свежей крови почуяли мы
на трапезе великих деяний.
Простри руки - мы тебя поведем,
соль твоего бытия приправит наш горький ужин.
Мы бросим тебя на растерзанье карликам
и прогоним сквозь строй исполинов,
омоем тебя в слезах
и лишим невинной тоски,
зальем расплавленным золотом
и швырнем на холодные камни.
Воины научат тебя силе страданий
и нескончаемой радости избавленья.
Город надо мной высится храмами и площадями.
Измученный, упадаю к его колоннам.
Козырь мой кроет чужая масть.
Ну так и дай же мне капельку своего тепла,
бусинку пота со лба, клок волос из-под мышки,
чтобы там, в смертельных садах моего отца,
я пел и смеялся.
Мужчина
Тяжелые медные губы и полные золота волосы -
такие знаки умеет посылать мой Господь.
Особенно мне, известному
своей невоздержанностью на язык и
прочие вещи.
(А курды нашли себе новую родину
в Курляндии, и у них
в вагонах есть шведская мебель.
Я тоже курляндец, и у меня
есть курляндский диван, на котором
я, вытягивая, а не преклоняя колени,
могу разговаривать с Богом.
Хотя вообще я не беден.)
Тяжелые медные губы,
застывшие в странной усмешке.
Увижу ли вас еще? -
(по сонной Москве
хорошо возвращаться
к этим губам, пить вино,
заламывать белые руки, стремясь
в водопаде волос
провести свою лодку) -
Не знаю.
Молочная прохлада ладоней,
далекая, задолго до первых соитий
блеснувшая в полумгле утра,
тонет в его тишине.
Сизые клубы дыма
похожи на мою тоску по тебе:
плывут над крышами,
цепляясь за провода и оседая на трубах -
веселые пасмурным и мрачные
ясным днем.
Погожим деньком
я улыбался тебе из окошка мансарды,
ласточка-голубка, стриж-стрижевич, король-
королевич, и сладкое молоко
из твоих клювиков
текло по маленькой площади;
печаль каштаном проросла из моей головы,
и свечи его, сдобренные тем молоком,
горели.
Ребенок
Перед сном наш корабль отправляется в плаванье.
Мы - кормчие, погонщики двугорбого судна.
В трюмах - наши жизни,
твоя и моя, и всех остальных.
Мы ходили одними и теми же тропами
в разное время
по разным морям,
и вот, наконец, наши руки
лежат на двух половинках штурвала.
Лишь сейчас я вижу твоими глазами,
слышу твоими ушами,
дышу твоею судьбой.
Ты дышишь моей,
и слышишь, и видишь моими.
В память о нашей любви
мы бережно обогнем горизонт,
откуда ты стартуешь
к престолу семи королей,
а то, что я натворил,
не позволяет мне следовать за тобой,
когда устремляешься вверх,
убегая из детских рук
полуденной краткой тенью.
Женщина
Вьются травы над прелой листвой
и шуршат тропинки.
Их устилает пятипалая чешуя
пятнистых осин.
Но превыше
их стрельчатых арок,
коренастых дубов и медоносных лип
возносится древо
моего влечения к Господу.
О, пронизанные солнцем поляны,
ласковые хороводы берез и пляски эльфов.
Окуни свой ус в солнечную купель, лучезарный Бог.
Сплети под землей свои корни с моими.
Ребенок
Конторы менял.
Полудневное серебро против
золота полночи.
Воздух, земля, вода и огонь -
наш курс изменчив.
Так живем, готовимся
к большим вояжам,
а уж у губ проступают
прощальные морщинки отца.
Приди ко мне, приди ко мне прямо сейчас.
Что досталось нам от взысканного к новым пашням
оратая?
Никто на свете не в силах вернуть твой смех и твою любовь.
Несколько лиц, немного слов, ручеек улыбок.
Вот и
(ветер гуляет
над землей, дождь льет
на землю, мыши пищат
под землей)
все.
Смерть - обрыв
в солнечное сияние, распахнутое окно,
створ ворот, полет над
кварталами ада и рая,
на грани света и тьмы,
прохлады и зноя;
под тобой - шуршание шин, цоканье каблуков,
полутень, полублики, надорванная пелена,
серая муть -
все идет, как шло, без тебя:
здравицы в прекрасных развалинах, -
оставь мечты и надежды, путник,
войди в буковый лес,
ветви и листья источают свеченье
над тобой, а нежная странница,
твоя душа,
скитается в околозвездном пространстве.
Женщина
Море дает, оно же берет обратно.
Толща вод скрывает востребованные дары.
Катятся валы спокойно-разымчиво,
словно девушка идет по песку.
Чайки Турн и Таксис
снуют между сушей и кораблями.
Солнце всех земель посылает свои лучи
на мой остров, исполненный медленной нежности...
Где он, царь мой, рыжая борода -
лег на дне, сел на весла,
встал на корме, или в чужой стране
вершит чужое дело, возвышенный
чужим над чужими.
Господь вынашивал меня, как носят детей и мысли.
Я вижу по ночам города,
где ты лежишь с почернелой ногой,
и форты, не сдержавшие натиска,
в золе и птичьем помете,
где самки выплескивают в тишину
фонтаны любви пузырящиеся.
А наяву в кабаках
по серым скатертям расползаются красные пятна,
из глоток пьяных рассказчиков вырываются грязные струи;
тоньше стрелы устремляется ввысь чья-то воля,
на крыльях любви возносясь к небесам,
и небеса отвечают прощальным звоном.
Я чувствую, как тянется пуповина,
когда враждебная сила
влечет тебя от острова к острову.
Дротик сердца дрожит в запоздалых руках,
а тем временем время течет, как воля и золото;
восходит солнце, и раздается
мерный, медленный, спокойный, чистый, нежный и мелодичный звон.
Хочу, чтобы все ушли и я осталась одна.
Тогда настанут тишина и покой.
Там, в тишине и покое, я стану тобою.
Словно птица с церковного шпиля упала в вере,
что в безумном полете ей не дано разбиться,
так и я Тобой был вызван на этот берег
и, безумный, шел, а нынче лечу, как птица.
Я мечтал принять из рук твоих корку хлеба,
оступиться нищим в снег на твоей дороге.
...Надвигается волна грозового неба,
и сегодня я увижу твои чертоги.
Мужчина
Каменистые пути наших предков,
их лодки, уносившие вдаль тела воинов,
их собак - хребет к хребту, голова к голове, -
стаи женщин, взятых с бою
и до гробовой доски, древки
копий, иззубренные топором, наконечники
стрел; их живучесть, непостижимая
перед лицом величайших опасностей;
их беспомощность, столь же непостижимая,
как и та, которую я ношу на пятках своих,
на коже, в жидкости, вытекающей
из ссадин и ран - столько горя и крови
под нашими галстуками, беретками и чулками,
столько взмахов ножа, ударов кастета, -
из глубины глубин, из себя самого
я, торговец своей душой,
трепещущей устричкой,
раскалывающей хранившую ее раковину -
Твои ладони, - взываю, Господи.
Мы все идем, и в ночном сиянье
голых стен и глухих заборов
встают полночные изваянья
бессилий, бед и немых укоров.
Что было с нами и между нами,
было нами, перестает, становится снова,
толпится полыми валунами.
в конце пустого пути лесного.
А город манит вдали, как призрак,
как меч, до коего не добраться,
как чаша, в коей когда-то вызрел
небесный плод золотого братства.
Он далеко, но при этом близко.
И нужно жить, подгоняя мысли,
и ждать, за кем поведет епископ
свой полк, в который нас не зачислит.
Сквозь лес крестов, голубой и серый,
средь черных трупов под снегом белым,
сквозь наши братства и наши веры
к непостижимым Твоим пределам.
Женщина
Вот и у меня в волосах завелась золотая прядь.
Золотая прядь у меня в волосах, а ведь я еще молода.
Я повстречала тебя на съезде с моей дороги -
ты спал у обочины.
Помнишь, ты окликнул меня, разбуженный
каблучками,
и я пошла за тобой.
Лезет в глаза мне пыль твоей колеи,
трава обвивает ноги,
судьба моя течет сквозь тебя
каплей крови
по смуглой щеке,
а я все иду.
Как давно я не была с тобой, господи!
Как давно я не была с Тобой, Господи!
А ведь раньше молились в одних и тех же садах.
Приди, соединись со мной - живот с животом,
соски с сосками, ладони на ягодицы.
Только не называй имен и не пой мне песен
того цыганского города,
что некогда приютил твою душу.
Правда твоя - она же ведь дуб Кощеев:
стоит возле моря, только неизвестно,
возле какого моря.
Того ли, в котором ты иногда удишь рыбу,
или того, в которое я когда-нибудь брошусь.
Веет ветерок ласковым теплом.
Ветру вслед рыдают горько струны -
Пожилой скрипач плачет о былом
И о том, как сердце было юным.
Плачь же, скрипка, ветру вслед!
Передай ты с ветром моей милой,
Что ее я жду много долгих лет
И забыть ее уже не в силах.
Мужчина
И так бывает, когда я следую за тобой
пеленой дождя или тумана, -
хотя бы мысленно, - и вижу тебя
сидящей в комнате, -
одетой или раздетой, -
на полу, куда уличный свет
уже упал пятном
дневного или ночного светила.
Все это: и по аппендиксам города брызжущие трамваи,
привкус свинца на губах, обтянутых сизой пленкой,
золотая нить,
вечное блуждание вдоль великолепных витрин;
все это - дельта реки,
предназначенная для схождения,
располагающая впадать,
алмазы чаек на панцырях парапетов;
все это:
безумное слоение галактик,
вызванное к жизни подземным теплом, -
я приникаю к истокам.
Сорок дней моя душа блуждала по небесам, на рассвете
сорок первого вышла к морю. Ей открылись плененные
паруса, журавлиный клин и встречный ветер, а вскоре
наш косяк уже вырулил к той стране, к румбу, чье острие
протыкает ворот, где лежит короной на плоском песчаном
дне удивительный, безумно прекрасный город.
Я летел над ним в том слое, что от земли отделяют
дома и горы людских усилий, и в которой прорваться
единственные смогли одинокие позлащенные шпили.
Я прощался с ними и видел - внизу, в окне, глядя на
бессонные красные крыши, встал один из тех, кто был
очень дорог мне, - но не мог спуститься, а поднимался выше.
Ребенок
Так все мы, странствуя, остаемся на месте -
с короной на майском лугу, июльским кубком,
кружкой сентябрьского эля, а то и
с горстью песка за рекой,
в тени деревьев, в их кронах, корнях,
под корой, среди соков верша свое плаванье -
запрятаны так глубоко, что лишь собаки по запаху
провидят нас сквозь годичные кольца.
И, возносясь по ветвям,
трепетом беглых душ пронзая пространство,
мы устремляемся к Господу,
сидящему на небесах,
в безмерной нежности не отличающему
плеска волны от треска свечи или рева органа,
безмятежно взирающему на то, как некто
рисует драконов на чердаке, а некто
давит мышей на кухне, и с каждой мышью
в одном из кругов очередная душа
отправляется в странствие,
преодолевая ту грань, сдвиг лимба,
возникающий, когда океан или материк
наползают на другой материк,
рождающийся на стыке
бытия и другого такого же бытия,
болезненно-, в силу ничтожности,
-восхитительный, в силу того,
что наставляет на путь,
именуемый Вечным, ибо он,
опоясывая Вселенную несколько раз,
проникая на отдаленнейшие хутора,
сочась из бесчисленнейших озер,
роясь и ветвясь,
упирается в
Вечную площадь
Вечного города
Вечной страны на
Вечной Земле,
где все мы собрались и ждем,
пока не наступит осень
с листопадами и девушками в белых плащах.
| Вернуться на главную страницу | Вернуться на страницу "Тексты и авторы" |
Сергей Морейно | "Орден" |
| Copyright © 2000 Сергей Морейно Публикация в Интернете © 2000 Союз молодых литераторов "Вавилон"; © 2006 Проект Арго E-mail: info@vavilon.ru |