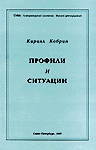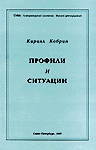Эх, достать патефончик, приладить к ящичку жестяной раструб, смахнуть бархоткой пыль с винилового колеса, крутануть упругий рычажок. Сквозь милый шум разобрать картавый лепет о любви, родине, тоске. Вымокнуть в надтреснутом рыдании скрипочки. И открыть буфет, и наполнить лафитничек зубровкой, и в слепом задыхании тыкать вилкой склизкий рыжик. И размять "казбечину", и пустить в потолок сизый дым... Какое блаженство, какое умиление! А потом вдруг завыть звериным воем, грохнуться со стула, кататься по полу, обхватив голову руками, глотая слезы с соплями вперемешку. Именно так. Именно так, но без "завыть". "Завыть" нет в новой книге стихов Николая Кононова "Лепет". Но есть лепет. Лепет о любви, родине, тоске.
Что же есть "лепет"? "Мамочка, родименькая, любименькая, не надо, я больше не буду, мамочка..." – вместо "Боюсь!" или "Больно!". Или: "Хорошая моя лапочка цыпочка ежик мой сурочек красотуленька красавицараскрасавицанежнаячудолюблютебя" – вместо "Кончаю!". Ряд слов, находящийся на примерно одинаковом расстоянии от нужного, иными словами, круг, бесконечно проворачивающийся вокруг смысла, ускоряясь, замедляясь, заедая. Граммофонная пластинка.
Первый раздел книги (первая сторона пластинки) называется "Слезы под аккордеон". Эх, водочка, закусочка, музычка. Или "месяц из тумана, вышедший нахалом с финкою поблескивающей". Или: "Ах, розовый месяц, снег, сумрак, смерть, встреченная смело". В общем, я был батальонный разведчик. Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком. Кононов перегоняет пенную брагу мещанских побасенок, песенок, разговорчиков в чистейший спирт стильного, почти анонимного бормотания почти растворившегося лирического героя. Если он говорит: "Сердце мое лыжником вниз срывается под снежком этим прогорклым", не верьте ему: сердце не срывается, а вот "снежок прогорклый" хорош. Но кононовские стихи вовсе не центонные кибирки из пробирки Иртеменко. Известное направление в нашей поэзии напоминает взвод детишек, лепящих звездолеты с ковбоями из пупырчатых кирпичиков конструктора "Лего". Что из таких цитатных кирпичиков ни сложишь, все одно получится: "United States... как много в этом звуке для сердца русского слилось!" Наш автор из других. Его кирпичики – не цитаты, у него и кирпичиков-то нет, у него камушки-слова. Он набивает ими рот и, подобно Демосфену на берегу Эгейского, бормочет, лопочет, лепечет. "Душенька, живи, отборной руганью прикормленная, арии крутя, лия рулады..."
Так о чем же льются "слезы под аккордеон"? Во второй "песне о родине" можно услышать: "Слезы под аккордеон в переходе: с маленькой буквы, о родина, тебе гимны..." Для начала обратим внимание на интонационный переполох: "смаленькойбуквы ородина тебегимны". Кажется, именно на "ородину" приходится хитрый синкоп усатого барабанщика: пшик щеточки по тарелочке. Но главное вот что: "гимны" – "с маленькой буквы". "Гимны" с маленькой буквы (вот такие – "гимны") отличаются от "гимнов" с большой ("Гимнов"): "Гимны" – они сразу в цель ("великий, могучий Советский Союз"), а "гимны" – вокруг да около ("и меня все эти сопли дорогие залили на пять шестых примерно"). Да и "жизнь" в таких грампластиночках тоже вокруг да около, скромненько так: "Жизнь проходит поселянкой дальними шальными огородами".
Ведь, в сущности, так и слышатся вялотекущие вертинские песенки, грустные речитативы есенинских виршей под раздумчивую гитару из художественной самодеятельности. Вкрадчивый голос диктора "Маяка" из репродуктора в пустом советском ПКиО. А что, собственно, пыжиться? Это все, что мы имеем. Или почти все. И даже начав с Лермонтова: "На дорогу выхожу один и только этих сумерек чуть-чуть побаиваюсь", закончим все равно Есениным:
Братец мой, дружок, брательник, кореш, разве мы цветем с тобой цикорием,
Разве мы проходим сладкозвучным, колющим, вечнозеленым строем... |
Как поется в песенке другого автора: "Все это наше. Навсегда".
И оттого, что "наше", никакой хитроумной инженерии стиха, строительных лесов вариантов, судорожных поисков нужных слов не треба. Поэт преобразует густое лексическое "наше" в чистейшее, бьющее по мозгам бормотание, в перламутровые камушки-словечки без малейшего усилия, почти не рефлексируя, лишь иногда ужасаясь. Но – иногда:
И потому, что я все это без единой помарки заношу в блокнот,
И мне это странно, дико, и я немею, молкну, трепещу,
Ведь должен кто-то, если не диктовать мне, то слушать все это... |
Автор лукавит. Ведь и Демосфен в одиночестве жевал камни, надеясь на агору. И "слезы под аккордеон" не где-нибудь, а в "переходе".
Про любовь песенки всегда, конечно, интереснее будут, чем про родину. "Жаркая пора" – второй раздел книги; он – про любовь, про жаркую пору, про жаркое – пора! Несколько стихотворений этого раздела были напечатаны в одном провинциальном журнальчике, в составе цикла "Порнология". Причем, лучшие. Именно они, будучи включены в "Жаркую пору", развеивают знойность страстей холодком подробностей. Ведь что такое, скажем, порнография? Пристальный интерес к периферийным деталям любви. Порнография возникает из стремления быть реальнее, чем сама реальность; она живописует (или живопоказывает) то, что ни один нормальный человек никогда не видел: blow up дырочек и палочек. В этом порнография сродни рентгену: все знают, что скелет есть, все знают, что без него никуда, но никто никогда его не видел. Рентгеновские снимки мистичны, фантастичны; такова же порнография. Стремление быть реальнее реальности (хотя, что такое "реальность"?) приводит к полнейшей иллюзорности. Срывая покров за покровом с коитуса, порнография сама оказывается покрывалом Майи. (Позволю себе социально-культурное отступление. Запрет на порнографию по терапевтическим соображениям равен запрету на рентген. А по нравственным? Нельзя же лишать людей иллюзий!) Что же тогда "порнология"? Рефлексия над порнографией, нечто вроде Стернова замечания о болезненности последнего содрогания. Потому "порнологические" стихи Николая Кононова остужают лепет его "Жаркой поры". Нельзя в определенные моменты сладко проборматывать "лоно твое светло, как серебряные рудники Силезии", или "эти-эти сладостные порезы на твоей зализанной дельфиньей коже" и сразу ментоловым (менторским) холодком на распаленную плоть: "Так-то, – говорю, – так-то. Ну-ну, ангел мой, – прибавлю, – вот-вот". Впрочем, можно, если воспарить на время душой над телом и увидать такое: "Вижу себя нагишом, беспробудного, с саженцем твердым меж ног". Что-то подобное мы уже читали о душах, созерцающих ими брошенное тело.
В общем же, было бы неплохо, если бы песенки "Жаркой поры" напела Мадонна. Let`s talk about sex. Давайте, давайте потокаем. Ничего лучше о сексе (пардон за старомодное слово) я в русской поэзии не встречал:
Лишь иностранцам-любимцам и неженкам все дозволяют, все можно им:
Месопотамию ласк посетить, что в паху коченеет мороженым,
Тает и липко течет сквозь штакетники губ, но нас туда не зовут,
Где меж бедер под пение газонокосилок я б вылизывал твой голливуд. |
Право, никогда не задумывался, как похабно и пошло гудит имя собственное фабрики грез... Итак, "Жаркая пора", медленные танцы в полутьме, истомная музыка, заветная кнопочка бюстгальтера партнерши под потной ладонью. А в тающем мозгу сценки из запретного видео.
Сторона третья: "Хвойное воинство". Читатель возразит, мол, у пластинок две стороны. Знаем, знаем. "Хвойное воинство" – это нечто вроде "песен, не вошедших в канонические альбомы". Запал кончился, обо всем сказано, остались только детали. Но бормотание, лепет продолжаются. Должны продолжаться. Именно об этом первое стихотворение "Хвойного воинства":
И ты мне надоел, Эол, и ты, Зефир, и вообще лучше не мучьте, не теребите
Арфы сами по себе умолкшие, вытянувшиеся струны,
одеревеневшие волоконца... |
– это об исчерпанности. А вот об обреченности продолжать: "И эта драма обмякшая тянется". "Хвойное воинство" относится к "Слезам под аккордеон" и "Жаркой поре", как пастернаковские "Темы и вариации" к "Сестре моей – жизни". Кстати, интересно сравнить последнее стихотворение "Сестры моей – жизни" и первое "Хвойного воинства". Пастернак:
Наяву ли все? Время ли разгуливать?
Лучше вечно спать, спать, спать... |
Кононов:
Я приветствую тебя, дрема!
Спите – спите, оползни царя Давида, буераки его чувств к ольхе и липе.
Спите – спите, раздражение его и подозрительность, псалмов рассада... |
Так и тянет ляпнуть: где кончается Пастернак, начинается Кононов. Нет-нет, кроме шуток, их многое объединяет – энтомологическая и орнитологическая изощренности, "страсть к органике" (как сказал бы Борис Парамонов), наконец, некая "поцелуйность", возведенная в ранг личной мифологии. У Пастернака читаем:
Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом разражалась гроза. |
Кононов вполне в духе деконструктивизма меняет "трагедию" на "языкознанье" и вполне в духе кинофильма "9 1/2 недель" предпочитает "поцелуям" – "лизанье":
Эти ужимки, колки, утренние тихие выкрутасы
В ларьке зеленщика, в ласковой подмышке Людвигштрассе,
Где мы кончаем немецкий курс университета по кафедре сомнительного языкознанья,
По помраченной специальности поцелуев, укусов, уколов, предпочтя им лизанье. |
Напомню, что "немецкий курс университета" кончал, но не кончил Пастернак. И вообще лепет как поэтический жанр был предсказан Пушкиным ("Парки бабье лепетанье,/Спящей ночи трепетанье,/Жизни мышья беготня"), но изобретен, несомненно, Пастернаком. Только лепет раннего Пастернака влажный, взвинченный, почти истеричный. А наш автор вернул его в изначальное пушкинское однозвучное, негромкое, бесконечное лепетание вокруг смысла: "Жмешься, топчешься, мерзнешь. И не скажешь ни слова по-крупному..."
Однако вернемся к "Хвойному воинству". Давайте поиграем в такую игру: какой стих из этого раздела куда бы вошел, не будь случайно (случайно! ибо "лепет") отвергнут. В "Слезы под аккордеон" или в "Жаркую пору"? "Мне зудят телефонные линии, полные пылкого неистребимого гуда,/Передавая по эстафете сердечную муку, как будто куда-то, кому-то", "Как и этого зализанного залива ссадина, сохнувшая лужица", "Вот и страстная, со следами истерик, перетекающая в стервозность/Русская болтовня звезд..." – все это из "Слез под аккордеон". А уж неудачников "Жаркой поры" пруд пруди: "Твоя ладонь, как джонка, пятерых кавалеров везущая на пиры/По Хуанхэ и Янцзы, плывет в низину живота к кущам клейкого урожая", "Вот ты, дождливо целуя меня, приближаешься оползнем к Каме" и т.д., и т. п. в том же знойно-географическом духе.
Так что же? Третий – лишний? "Хвойное воинство" не нужно? Дело не в том, нужно или не. За "Хвойным воинством" вполне могли последовать какие-нибудь "Санитары леса" или "Выдвиженцы птиц". А могли бы и не последовать. Лепет (и "Лепет") бесконечен; его нельзя нарезать как палку колбасы на кусочки; если бесконечность поделить на пять – получится бесконечность. Это как зеноновская апория о стреле. Это как бесконечное приближение кафкианского героя к невесте в деревне. Это как бесконечный детский лепет. Последняя строчка книги Кононова такова: "Одеялом ласковым укрой меня, – шепчу так тихо, – маменька".
Пластинка кончилась. Патефонная игла елозит по пустым бороздкам. Кононовский "Лепет" заворожил. Хочется лепетать, лепетать, лепетать. Только бы не завыть в конце концов.
Продолжение книги "Профили и ситуации"
|