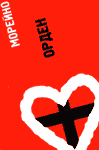
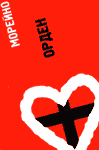 |
Город Депилс, город Депилс!
Я давно c тобою не пил-с.
Хоть в тебе я долго не жил,
ты меня как лялю нежил.
Все меня дождями квасил,
на воде держал, на квасе.
Ты в разливах Дюны тонешь
да по-польски тихо стонешь.
"Я - инфлянтская столица.
Надо мной Варшава длится".
Осень стоит на лугах,
тяжелая, крепкая осень,
смердящая в каждом кусте -
даже и в том, что чудом
вырос на пепелище,
давно отдал Богу душу,
ветру - листья.
Овцы бредут по полям.
Грузовик обгоняет трактор.
Старый усатый пан
ночевал с землей-потаскушкой.
Простыни еще тлеют.
Осень стоит на лугах.
Пора заказывать саван.
Жизнь лежит на холмах,
наброшена паутиной.
В верхнем ярусе мы,
в нижнем - осенний смрад.
Здесь мы сами себе
идолы, боги и люди.
В какой-то из аватар
я - цыганский барон,
в какой-то - святой Антоний.
Я иду по росе,
в песок окунаю посох.
Ангел за правым плечом,
бес за левым плечам.
Я иду, а вокруг
творится всякая нечисть.
- Всевышний, - я говорю, -
что за хреновый мир.
Разбивается жизнь на много частей и трещин.
Из одной в другую все время кочуют вещи.
Эта комната с картиной из жизни прошлой.
Из такой же, как и эта, быльем поросшей.
В ней сидит она, предлагая согреть с дороги,
говорит: "У меня сегодня теплые ноги".
И, бесстыдное желание вымогая,
смотрит жалко и просительно. А другая,
На морозе девой русской в снегах свежея,
под топор твой лебединую клонит шею.
Так под дудочку факира танцует кобра;
так цыгане в драке ломают друг другу ребра;
так пытает колесница дождями пашни;
так отечество стенает в листве вчерашней;
так светило тонет в кровавых объятьях моря;
так вершатся непорядок и раннее горе.
И мысль о том, что, набравшись храбрости,
можно единомоментно
лишить себя жизни,
сладка и любезна
бездарному сердцу.
Госпитальные стены
цвета мокрой печали.
Ничего мы не знали.
Флюгерами качали
Госпитальные крыши:
что ль, они виноваты?
Просыпаешься в небе -
там всё те же палаты.
Меж торцов госпитальных
госпитальные травы.
Госпитальная зелень
вкуса горькой отравы.
И лениво-достойна
лишь того, кто помазан,
иссушившая землю
милость грани алмаза.
Ярче золота солнца,
громче голоса крови
и пышней одеянья
тех, кто встал в изголовье, -
эта смертная тяга
в голубом, как безбрежность,
обожженном пространстве
обреченная нежность.
Да, такая вот жизнь. И есть ли в ней что-либо
более тщательное и постоянное, чем след от удара
мясистого кулака в испуганное лицо?
Может быть, свет за окнами
или же связь между мужчинами, женщинами и детьми,
питающаяся этим светом?
Далекие меридианы сходятся в моем сердце.
Я кормлю их с руки - истомившихся голубей.
Воздушные корабли, ища пристанища, встают на рейде моей ладони.
Как получилось, что я, чей дед и отец
выросли на континенте,
халдей, цыган,
очутился подле него, ревущего джинна,
заточенного, словно в бутылку, в смолистые берега
студенистым телом?
Поздний рев заблудившегося гиганта.
Мы с ним обломки некогда мощной вселенной,
пара моллюсков на жесткой земле,
а меж нами
нитка песка, уводящая в сад, где растут апельсины,
любовь к которым так странно нежна,
что ранит нас, одиноких скитальцев.
В этом саду вдоль азимутов и координат
тысячи сердец сообщают телам грядущие судьбы,
сползаясь на торжища к пульсирующим столам,
рыбе пронзенной, растерзанной живности,
замирая в бешеной скачке
(эй, ямщик, гони-ка ты...) или
вспыхивая на свинцовом ветру
(как красиво горят "КамАЗы"!)
Бес за левым плечом,
бес за правым плечом.
*
Счастья не будет, и сон не приснится.
Месяц что кровь, небо что власяница.
Вырвет, растреплет и пустит по кругу
ветреный север приданое юга.
Сладкий мой, в наших садах уже осень.
Ниткою чернь еле брезжит сквозь просинь.
Мой беззаконный, мелькает все чаще
в каждой бегущей твой профиль скользящий.
Звезды склонялись к твоей колыбели,
ветры им выли и ангелы пели,
ночь в свои нети ворота раскрыла:
спи, ясноглазый мой, спи, сизокрылый.
Страсть - та же смерть.
Она оставляет ворох дымящейся кожи
между тобой и тем местом, где лежала она.
То - твой залог за эту вот жизнь,
возжженный лучом ее глаз
(вот что страшнее всего:
бывают глаза похожи на звезды).
(Но у нее и во лбу сияла звезда -
да, вот так-то!)
Ты плывешь нагая, мерцающая, над садами,
извергаясь дождем дождей,
исходя ливнем ливней.
И если ты горяча, то кровь
заставляет рдеть волнующуюся кисею,
а если ты холодна -
водопад замерзает.
(Так снега приходят на землю.)
Друг мой, мой друг.
Глоток разведенного спирта, огурец
маринованный, занюхать
кусочком хлеба, еще лучше
кусочком хлеба с колбаской:
вот из чего образуется бытие,
вернее, существованье, -
и в этом глотке
содержится толчея за окнами бара,
наши жены и дети,
девушки за теми же окнами, -
глоточек, еще глоточек...
Веки не подымешь.
Крыши-то белы, да дороги кривы.
Ноги мускулисты, да латы ржавы.
Друг мой, мой друг.
- В древние времена, - сказала инфанта, -
были месяц и звездочки.
Небочко было красивым, белым, синим,
а серым не было.
Снежок выпал. Дождик прошел.
Заяц и еж заблудились.
И снова выпал снежок.
Всех успокоила мышка. Меду дала, -
так сказала инфанта.
Ночью через лес я пробирался.
Люди древес остановили меня.
Связали, посадили на холодную землю.
Пытались разжечь костер.
Говорили на своем языке.
Сырая мгла лежала на всем, в том числе на поленьях.
Один из них, именем Хной, припал на колени к костру,
не желавшему разгораться.
"Отойди, Хной, - обратился я к нему понятными им словами. -
Ты мешаешь мне вызвать огонь".
Все застыли. Хной в испуге отпрянул.
Я сосредоточился, глянул в гущу дров -
пламя взвилось до небес,
раздвинуло мглу.
Трещали мелкие сучья.
"Кто ты?" - опомнился вождь.
"Я - беглец".
"Чего же бежать тому, кто повелевает громами?"
"Не люди гонят меня, но рок".
О Владычица, о моя Белая леди!
Столь велика твоя власть, манящая в синеву,
что и кости сии, хоть леопардами съедены,
ветрами высушены - но ты позовешь, и они оживут.
И не рок то гонит меня, но твой зов, меняющийся, как ветер,
с запада на восток, тропою цыган,
заводью полночной, звездой на рассвете...
И ноет нога к снегам.
| Вернуться на главную страницу | Вернуться на страницу "Тексты и авторы" |
Сергей Морейно | "Орден" |
| Copyright © 2000 Сергей Морейно Публикация в Интернете © 2000 Союз молодых литераторов "Вавилон"; © 2006 Проект Арго E-mail: info@vavilon.ru |